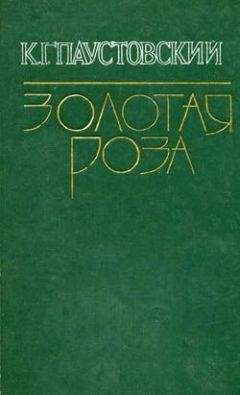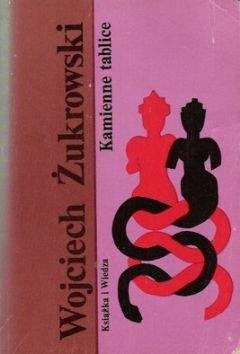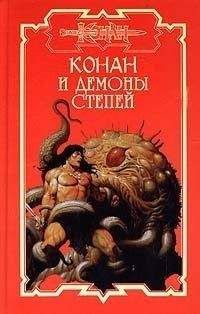Зеркало висело в простенке, небольшое, в резной деревянной оправе, и матовый отблеск от него падал на желтые половицы. Иван смотрел в зеркало и видел свое отражение, как бы развернутое слева направо, — ничего особенного, простое, скорее даже простоватое лицо, скулы широкие и лоб тоже широк, глаза… Впрочем, о глазах сейчас трудно что-либо сказать, поскольку они устремлены на себя самого, пытаясь проникнуть взглядом внутрь, отыскивая в себе нечто такое, что могло бы служить объяснением, оправданием своего «я» или чем-то в этом роде… То есть это было и неожиданно, и ново — прежде Иван никогда не обращал внимания на свое лицо, а если и заглядывал в зеркало, то так, мельком и мимоходом, подтрунивая в душе над собою: красавец из тебя, пожалуй, не выйдет, но со временем может выработаться вполне сносный и даже представительный мужчина… И вдруг этот неожиданный, как бы со стороны взгляд в себя самого и вопрос: кто ты, зачем ты и что ты хочешь от себя? Он словно впервые видел свое лицо, пытался за внешней «маской» разглядеть главное — мысль и душу, еще сам не отдавая себе в том отчета, еще мучаясь и страдая оттого, что недостает лицу солидности и строгости. Тогда он снял зеркало, поставил на стол, прислонив к стене, придвинул стул и взял в руки карандаш… И снова смотрело на него простоватое, несерьезное лицо, которому, увы, не хватало мужества. Он попытался «устранить» этот недостаток карандашом, не очень заботясь о внешнем сходстве. Хотелось уловить и передать состояние лица в момент какого-то внутреннего порыва, напряжения… Но «порыва», как такового, не было. Иван отложил карандаш. Смотрел не мигая, строго и прямо на свое отражение в зеркале. «Что же ты, друг, подводишь меня?..» — спросил с печальной иронией, сам еще не сознавая того, что с этой минуты он уже не сможет равнодушно смотреть на себя, и в лице своем будет постоянно и упорно отыскивать черты, соответствующие настроению души, и не просто отыскивать, а вырабатывать, насколько это в его силах, лепить самого себя… Много лет спустя друг его и соратник по искусству Крамской в одном из разговоров признается: «Более всего на свете люблю человеческую голову… лица, глаза — поскольку в них отражение души».
Иван пытался разгадать самого себя. Понять хотел, каковы в нем заложены силы, и побудить эти силы к действию. Искал выход из создавшегося положения, чтобы сделать свой первый шаг и быть уверенным в правильности избранного пути.
Сидя перед зеркалом, вглядываясь в свое лицо и не находя в нем соответствующего «идеала», он все-таки набросал поспешно три небольших, как бы небрежных (на самом деле очень старательных и неумелых, наивных) автопортрета, каждый из них сопроводив соответствующей подписью: «Разинул рот», «Кричит», «Задумался».
Позже он забудет о них, об этих рисунках, и они многие годы пролежат «в бумагах», когда же попадутся на глаза — все то, что мучило восемнадцатилетнего Ивана Шишкина, все его сомнения и колебания останутся уже далеко позади, однако именно тогда поймет он и почувствует, насколько важными для него были те минуты, те душевные поиски, от которых зависела его судьба, его будущее…
Иван сидел задумчиво, подперев ладонями подбородок, и не заметил, как в комнату вошел отец. Почувствовав чье-то присутствие, Иван машинально прикрыл руками рисунки, обернулся и почему-то в смущении встал.
— Работай, работай, — поспешно сказал отец. — Я на минутку.
Он редко в последнее время заходил в комнату младшего сына, то ли избегая прямых разговоров, то ли откровенно не желая на эти разговоры тратить время. И потому его приход несколько удивил и насторожил Ивана. Он смотрел на отца и выжидательно молчал. Отец придвинул стул и сел рядом, искоса поглядывая на сына, потом перевел взгляд на рисунки, их было много — на столе и на стенах, законченные и только что начатые, наброски в два-три штриха… Отец улыбнулся, разглядывая автопортреты Ивана, спросил:
— А это когда ты успел?..
— Сегодня. Да это так, пустяки, — словно оправдываясь, ответил Иван. — Попробовал вот при дневном свете.
— Нет, нет, совсем неплохо, — похвалил отец. — Может, я ценитель не искусный, но мне нравится. Карандашом?..
Иван кивнул. Отец взял со стола карандаш, покатал его в больших шершавых пальцах, словно пытаясь понять, как можно из обычного графита извлекать такое вот чудо, покачал головой, так, наверное, и не добравшись до сути, и бережно положил карандаш, провел пальцами по рисунку.
— А это?..
Иван проследил за его движением.
— Это я на Чортовом городище зарисовывал.
— Похоже, — сказал отец. — Славный рисунок. Это хорошо, Иван, что ты Чортово городище зарисовываешь: там уже и сейчас развалины, а что будет лет через сто…
Иван усмехнулся:
— Ты думаешь, мои рисунки сто лет проживут?
Отец не ответил. Может, не расслышал, думая о своем. Сказал:
— Здесь был когда-то город Гелон. Булгары построили. Я вот все думаю: каким он был, этот город Гелон, какие люди в нем жили, чем занимались? — Он глянул на Ивана и, вздохнув, продолжал: — Войны тут были извечные. Люди не могут без войн, хотя по крови все, должно быть, братья — от одного корня идут. Почему враждуют? Видел, какая там крепость стояла?.. Одни развалины остались…
— Время ведь тоже враг человека, — сказал Иван. — Разрушитель.
— Да, — согласился отец, — и время тоже. Все разрушило.
— Однако новая Елабуга стоит…
— Новые люди — новый город. Так из века в век. А старый-то город, пожалуй, был поменьше теперешней Елабуги. Зато крепость — каменная, неприступная. И башня сторожевая. Какой обзор с высоты!.. На сто верст вокруг… Скрытно не подойдешь.
— А войны тут какие были?
— Разные, — сказал отец. — Персидский царь Дарий тут неподалеку скифов разбил, зимовал в Гелоне, а весной, как только просохло, сжег дотла город и ушел…
— Зачем же он город сжег?
— Силу свою показывал.
— Сила разве в этом? Построить город — сила нужна.
— Город построить ум нужен, — сказал отец и встал. — Ну, ладно, пойду, не буду тебе мешать. Работай.
— Ты мне вовсе не мешаешь, — тронутый отцовским вниманием, возразил Иван. — Завтра я развалины башни попытаюсь зарисовать снизу, от Тоймы…
— Башню восстановить бы в прежнем виде… А так… чего ты там зарисуешь. Ладно, пойду. Работай.
И вышел, оставив Ивана в возбужденном, взволнованном состоянии. Отец сказал: работай. Значит, он всерьез смотрит на его, Иваново, занятие. Но все же, как показалось Ивану, отец что-то и недоговаривал — не за тем же он только заходил, чтобы рассказать о древнем городе Гелоне, сожженном персидским царем Дарием… Хотел, наверное, еще что-то сказать и не сказал. Не решился.
Шаги отца еще некоторое время слышались в коридоре, на лестнице, он шел не спеша, думая, видно, об Иване, о его рисунках, о городе Гелоне, на месте которого стоит Елабуга, и о том, что без понимания прошлого нельзя всерьез думать о будущем. Он любил Ивана не меньше других своих детей, а может, и больше, не мог понять, откуда в нем эта странная тяга к рисованию, и тревожился постоянно — к чему все это приведет?.. А ну как прогадает: потратит попусту лишние годы и ничего не добьется? Боязно все-таки…
Иван Васильевич прошел в свой кабинет, дослал из шкафа толстую тетрадь в сафьяновом переплете, подержал в руках, словно взвешивая, — поднакопилось тут за долгие годы мыслей да размышлений, разного рода записей!.. Шишкин-старший никому не показывает свою тетрадь, хотя скрытность и не в его характере. Только однажды Ивану удалось заглянуть в нее, когда отец вышел куда-то, забыв или намеренно оставив тетрадь на столе. Иван поспешно листал, поражаясь отцовскому постоянству: вот уже тридцать лет кряду, почти ежедневно, из месяца в месяц ведет он записи, тетрадь полна самых неожиданных и разнохарактерных сведений — тревожных (о низком урожае в Прикамье, о разразившейся холере, заставшей отца где-то в дороге, близ Нижнего), спокойных, деловых: «Снегу во всю зиму было мало и дороги были отлично хороши». И вдруг еще одна запись, потрясшая Ивана великой простотой факта: «1832 генваря, числа тринадцатого, в среду, в 12 часу ночи родился сын… Крестил священник Куртеев с диаконом…»
Сын родился… Иван Васильевич задумчиво листал тетрадь и думал о том, что появление человека на свет — это еще не рождение Человека. Ибо человек рождается позже, гораздо позже, когда он осознает и себя самого, и мир вокруг себя, да и не всякий человек приходит к этому осознанию… Далеко не каждый. Иван Васильевич взялся было за перо, придвинув к себе чернила, поднес руку к чистому листу, да замешкался, не стал ничего записывать, словно впервые за все время не решаясь поверить свои мысли бумаге…
Неожиданный разговор с отцом (да и сам приход отца показался неожиданным) растревожил Ивана, и он не находил себе места. Думал о себе, как о ком-то другом, постороннем. Спрашивал: «Скажи, братец, ты решил пойти против воли других, а твоей воли хватит на то, чтобы отстоять право выбора своего пути? И твердо ли ты уверен в том, что выбор твой правилен?..» И об отце думал: отец знает, чего хочет, двумя ногами стоит на земле, а вот он, Иван, будто спутанный конь — скачет, скачет, а все как будто на одном месте… «Работай», — говорит отец. Душа у Ивана расположена к работе, душой он чувствует все и все как надо воспринимает, но руки не слушаются, и все, что делают руки, кажется жалким, беспомощным, никудышным. Мечтает Иван втайне, ждет того часа, когда душа и руки сольются в одном порыве, и тогда он такое изобразит, такое сделает… Ах, мечты, мечты!.. Но что же будет завтра?.. Завтра, как вчера и сегодня, он будет рисовать — может, на Красной горке, где знакома ему каждая сосна, или на Чортовом городище среди безмолвных серых развалин, или в своей комнате, за столом, гримасничая перед зеркалом… И послезавтра тоже будет рисовать. Рисовать, рисовать, рисовать… Он постоянно живет одним желанием — рисовать. И рисует не только днем, вечером, но даже во сне, ночью, и утром просыпается с одной мыслью: рисовать. Но, кроме желания, должно же быть и еще что-то за душой…