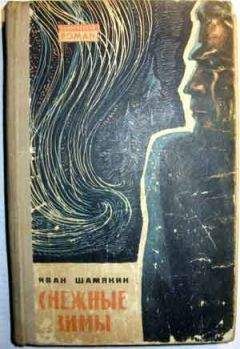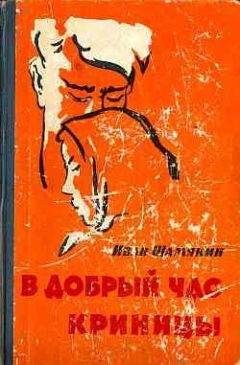В чем новизна творческих поисков художника?
Прежде всего, в его обращении к тому, казалось бы, ординарному, в чем-то даже отрицательному типу, который неожиданно оказывается способным на геройские поступки. Рассказывается в повестях о характерах достаточно сложных, противоречивых, внутренне конфликтных. Речь идет об Ольге Ленович («Торговка и поэт») и Маше Петровой («Брачная ночь»). Они, безусловно, отличаются своими социально-идейными, нравственными «параметрами», однако есть в них и что-то общее. Обе они — и Маша, и особенно Ольга — героини отнюдь не «голубые», как иногда называют идеального героя. И здесь, в известной степени резонно, может возникнуть вопрос: а стоило ли ставить их на «должность» положительных героев? Ответ можно дать только с учетом таланта писателя, его опыта и творческих возможностей — они у И. Шамякина как раз весьма значительны. И самое главное — с учетом его позиции художника-исследователя, аналитика, который стремится дойти до истоков явления. Автор стремится проследить, как, при каких условиях освобождаются положительные потенции человека, лучшее, на что он способен, наступает тот, иначе говоря, момент, который называют его «звездным часом». Такой момент в конце концов наступил и для Ольги Ленович, и для Маши Петровой.
И. Шамякин всегда был мастером сюжета. Это — ценная сторона его творчества. Сюжет повести «Торговка и поэт» — это рост и организация характеров Ольги Ленович и Саши Гапонюка. Он — один из инструментов психологического исследования, который виртуозно используется автором в глубоком раскрытии человеческих характеров и обстоятельств, среди которых приходится действовать его героям. Арсенал художественно-эстетических средств писателя подчинен желанию правдиво показать современника, его борьбу за светлые идеалы.
В одном из дневников И. Шамякина читаем: «Для меня самая большая честь — написать хороший роман». Примечательная запись! Пожелаем ему дальнейших успехов на этом пути.
В.Гниломедов
Зубр стоял под старыми елями, комли которых обросли седым мхом. В этом глухом углу пуща вся первобытно-замшелая: ели выглядят, будто простояли тысячу лет, старые пни — под толстым слоем мха, а внутри все превратилось в труху. Редкие выворотни напоминают доисторических животных.
Потому, должно быть, властитель пущи показался Антонюку еще одним выворотнем. За день скитанья по лесу попалось их немало, самых диковинных. А может, потому, что он глубоко задумался? В лесу всегда хорошо думается. Лес успокаивает, разгоняет тревогу, волнения. Не раз уже случалось, что неприятности, вчера еще казавшиеся чуть ли не трагедией, после такой вот прогулки по лесу и раздумий под шум деревьев или под шелест опавших листьев под ногами оказывались мелкими, не стоящими серьезных огорчений. Перед величием леса, его древней мощью человеческие конфликты, горести, заботы, особенно нынешние — мирного времени, — представали совсем в другом свете. Так было полтора года назад, когда он приехал сюда после того, как его, крепкого, здорового, спровадили на пенсию. Тогда он был в отчаянии. А побродил по пуще — и назавтра почувствовал, что может посмеяться над свалившимся «горем», перестал сочинять филиппики против своих недругов и тех, кто смущенно молчал, хотя и понимал, что вся его, Антонюка, вина лишь в том, что он говорил то, что думал.
Сейчас никаких неприятностей не было. Он приехал сюда просто отдохнуть. Никаких серьезных раздумий. Разве что о детях. Всегдашняя его забота — дети. И однако же чуть не поцеловался с царем пущи. Застыл в нескольких шагах, когда зубр медленно повернул голову. Теперь они смотрели друг на друга, человек и зверь.
Неприятный холодок пробежал по спине. А что, если зубр бросится? Что делать? Стрелять? Не имеешь права. Да и заряд не на такого зверя. Утром отказался от охоты на дикого кабана, на которую приглашал директор заповедника. Заряд у него на тетерева. Удирать? Представил, как он, старый человек, будет бежать, петляя между деревьями, продираясь сквозь молодой колючий ельник, чтоб спрятаться. С иронией подумал: «Никогда ты, Иван, не бежал ни от каких «зубров». Отступать — отступал. Перед более сильным, перед врагом… да еще иной раз обходил стороной дураков».
День — по-осеннему хмурый, под шатром елей почти вечерний полумрак, и невозможно разглядеть глаза зубра: что они выражают? Рассказывали егеря: такие быки, отбившиеся от стада, ведут себя, как шальные, — кидаются ни с того ни с сего. Особенно обиженные матерым самцом. Но этот, кажется, немолод. Шерсть на высоком хребте безобразно всклокоченная, грязно-бурая, под выгнутой шеей висит клочьями, как бывает весной, когда зверь линяет. Однако рога по-молодому острые. Такой рог проткнет насквозь.
Зубру захотелось одиночества. Ему, Антонюку, тоже вчера хотелось одиночества. Хотелось послушать осенний лес — как падают последние листья, как шуршат под ногами… Послушать самого себя. Только в лесу это удается. И с утра весь отдался лесу, его грустному настроению. С ним говорил. С лесом. С людьми — не с кем. Отдалились все те, с кем когда-то спорил, ссорился, кому доказывал свое. Спорил в кабинетах, в залах и здесь, в лесу, мысленно, блуждая один, как тот зубр.
Теперь полная ясность и полный покой. Но это мало утешает. Понимал: подходит осень. «Отговорила роща золотая». Да, видно, отговорила. Что ж, Иван, ты неплохо пошумел. Во всяком случае, перед детьми не стыдно. Перед детьми…
Еще несколько минут назад хотелось поглубже забраться в пущу, где-нибудь на первобытной полянке между вековых сосен разложить небольшой костер и до вечера сидеть, чтоб надолго насытить жажду одиночества, чтобы месяцы — до следующего «приступа» — носить в себе шум леса и дыхание осени. А тут вдруг — после встречи с зубром, что ли? — захотелось к людям. Раньше это не приходило так скоро. Переход в новую стадию старости, очевидно? Иван Васильевич догадался, кто стрелял. В пуще стрелять можно только по разрешению, а разрешение такое не каждому дается. Еще вчера с вечера знал, кто приехал сюда на короткий отдых. Директор заповедника предлагал присоединиться к гостям.
— А то там одни теоретики, разговорщики, как наш друг Будыка. Без тебя да без меня, — а у меня завтра дела, — они ноги собьют, а кабана не убьют.
— Нет, брат, не тот уровень, — он ответил просто так, чтоб не поддаться охотничьему соблазну и побыть в лесу одному. А директор, наверное, решил, что сказал он это с горечью, из-за своего положения, и деликатно перевел разговор на другую тему.
Сейчас он не думал ни о каких уровнях и спешил туда, где звучали выстрелы, чтобы оказаться среди людей. Как вчера хотелось одиночества, так сейчас неведомо почему потянуло в компанию, где будут новости из «высоких кругов»2 шутки, хороший обед. Необычайная способность ориентироваться в лесу — товарищи по охоте называли ее «собачьим нюхом» — вывела точно, как по азимуту. Вышел на просеку и увидел их, веселых, возбужденных удачей. Будыка углядел его издалека, удивился, спросил сперва будто и не слишком приветливо:
— О, и ты тут? — И вдруг обрадовался, вскочил, пошел навстречу, прихрамывая, — натер ногу. — Товарищи! Старейшина нашей охотничьей корпорации — Иван Васильевич. Он должен зарегистрировать ваш рекорд, Сергей Петрович. Прошу знакомиться. Мой партизанский командир. Нет, ты погляди, какого мы кабана ухайдакали. А свалил Сергей Петрович! Охотничье счастье, оно как деньги — есть так есть, а нет так нет. У Сергея Петровича оно есть. Нет, ты посмотри, какой зверь! А-а? Что? Завидуешь? Глядите, как у Антонюка блестят глаза!
Будыка поздоровался и, не выпуская руки, потянул Ивана Васильевича к компании, как будто тот упирался и не хотел идти. Гости, видно, здорово обезножели, потому что все до одного сидели или лежали на сырой и холодной уже земле вокруг убитого кабана — как дикари, что застывают в нетерпеливом ожидании, когда старейший начнет делить добычу. Никто не спешил отозваться на предложение Будыки знакомиться, только лениво повернули головы. Свои, Сиротка и Клепыев, заулыбались. Гости оценивали нового человека: верно, определяли, что за птица, какого ранга. Партизанский командир — через двадцать лет это уже мало что говорит. А другого титула Будыка не назвал.
Иван Васильевич подумал:
"Не рассчитывайте, что я пойду по кругу и буду знакомиться с вами, лежащими, буду первый протягивать руку. Не дождетесь, уважаемые".
И поскольку Будыка тащил его к охотничьему трофею и, по сути, приглашал в первую очередь познакомиться с ним, Антонюк так и сделал — отдал все внимание убитому зверю. Кабан лежал под дубом, ощерив желтые клыки, изо рта сочилась струйка еще свежей крови. Но убит он был не здесь, сюда его подтащили; туша прочертила широкий след-стежку, раздвинув листья, раздавив желуди, содрав мох с корней, оставив узенькую полоску крови, уже не красной, а рыжей, как ржавчина.