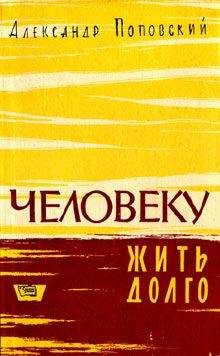Прошли две недели. Между прежними фронтовыми друзьями как будто наступил мир. Мы начинали привыкать к приходам Антона, речи его все меньше занимали меня, да и было мне не до него. Шли приготовлении к опыту, от которого зависел успех первой пересадки сердца животному. Надежда Васильевна, много потрудившаяся в эти дни, сильно изменилась и выглядела усталой.
— Уж очень вы себя не жалеете, — упрекнул я ее, — вы бы на денек остались дома и передохнули.
— Не поможет, — горько усмехаясь, сказала она, — я плохо сплю, слишком часто вижу Антона Семеновича во сие. С ним и наяву и во сне одинаково тяжко… Я все собиралась с вами поговорить, да не приходилось… Прошу вас, Федор Иванович, во имя всего, что вам дорого, не оставляйте его здесь. Не жаль вам меня, его пожалейте… Ни жить, ни дышать я рядом с ним но могу, а самой уйти сил не хватает… Я не могу и не должна вас оставлять. Не спрашивайте, почему, я все равно не скажу, Я не хочу его здесь видеть, и вы поможете мне. — Не давая мне вставить слово, она, все более возбуждаясь, долго и горячо говорила. — Он завидует вам и в своих нечистых стремлениях способен на все… Он разрушит ваши планы, загрязнит своими расчетами святое дело вашей жизни… Мне не следовало бы так говорить — вы родственники, но как мне доказать, что единственное мое желание — вас уберечь. Он сделает вас несчастным, и я этого не перенесу… Спасти вас — мой долг и горячее желание… Он не должен здесь оставаться, ни в коем случае, ни за что…
Что стало с моей спокойной и сдержанной помощницей? Откуда эта отчаянная решимость и угрожающий тон? Я никогда ее не видел такой. Сколько гнева и страсти по поводу столь незначительного обстоятельства… Надо было ее успокоить, и я сказал:
— Обещаю вам, Надежда Васильевна, подумать над тем, что вы сказали. Мы об этом еще поговорим…
С некоторых пор отец Антона с присущей ему горячностью увлекся мыслью оградить людей от вредных последствий шума и вибрации в домах и на улице. Возникло это увлечение после того, как он побывал в Ленинграде на Международной конференции по изучению последствий уличного шума. Само собой разумеется, что благодаря заботам моего друга я изучил научную область, о которой не имел ни малейшего представления. Я мог бы без запинки сообщить, что лиственные насаждения отражают шум, отчего в домах тихо, когда на улице рокот и гул. Я узнал, что санитарный инспектор обязан следить за тем, чтобы крупные машины и паровые молоты на заводах ставились на пробковые или войлочные прокладки; не допускать, чтобы системы зубчатых колес, сцеплений и отдельные детали громыхали; отвергать проекты домов, в которых верхние этажи не защищены от звуков, идущих из мастерских, расположенных в подвале; не допускать строительства фабрик без учета того, в какую сторону ветром будет разноситься от них шум. Много благодетельных обязанностей прибавилось санитарному инспектору, даже забота о том, чтобы рабочих снабжали наушными аппаратами, устраняющими шум, но все же позволяющими воспринимать человеческую речь… Все эти нововведения радовали Лукина и доставляли ему истинное наслаждение.
О том же, но в другом освещении и с недоброй целью говорил мне Антон. И шум, и вибрация служили ему доказательством того, что цивилизация фабрикует непригодных для жизни стариков. Я сразу же разглядел источник вдохновения Антона, но сделал вид, что слышу об этом впервые.
— Бессмысленно пересаживать жизненно важные органы человеку, у которого нервные центры нарушены и психическое равновесие поколеблено, — не уставал он. меня уверять.
Эти рассуждения, как и другие подобного же рода, не удивляли меня. С тех пор как Антон вернулся в Москву, он только затем и навещал нас, чтобы в различных вариантах высмеять упрямца-дядю, отказавшегося от счастья и славы во имя призрачной мечты.
— Бессмысленно, конечно, пересаживать, — с невинным видом соглашался я, предвкушая впечатление, которое произведет вторая часть моего ответа. — Все зависит от того, что скажут терапевты и невропатологи. Хирурги без них пальцем шевельнуть не смеют.
Антон понял, что я над ним смеюсь, и не без досады, но с достоинством сказал:
— Вы недооцениваете вред, причиняемый вибрацией и шумом. Они преследуют нас в доме, на улице, в поезде и на самолете, настигают нас всюду: в метро, в автобусе, в трамвае. Мы живем в атмосфере, сотрясаемой шумом и толчками, пронизанной слышимыми звуковыми волнами и неслышным инфра- и ультразвучанием. — Речь его текла ровно, взгляд был уверенным, спокойным, только нервное подергивание руки каждый раз, когда он подносил ее ко рту, чтобы погрызть ногти, выдавало его раздражение. — Шум обходится нам слишком дорого, — продолжал он. — Грохот, нависший над центральными кварталами Нью-Йорка, подавляет деятельность эндокринных желез детей, и двадцать процентов из них умственно и физически недоразвиты…
Унылое завывание Антона начинало мне надоедать. Я знал, что он не скоро кончит, и решил дать ему передышку:
— Не слишком ли много приписываешь ты шуму, — прервал я его излияния. — Ведь между шумом и музыкой особой разницы нет. И то и другое возникает из колебания какого-нибудь тела в воздухе… Всякий шум содержит музыкальные тона…
Антон подготовился к серьезной речи, и никакие шутки, конечно, не могли ему помешать договорить до конца. Я был далек от мысли лишить его удовольствия выразить свою мысль возможно полней, но меня раздражал его важный вид, словно не чужие — отцовские мысли, а свои излагал он с той лишь разницей, что отец искал средств оттеснить зло, а сын выпячивал его. Вряд ли он думал, подобно отцу, о страданиях людей или желал оградить их от шума и вибрации.
— Этот нескончаемый концерт, — с прежней неутомимостью продолжал Антон, — изрядно нас оглушил. Ни отдых, ни сон не ограждены от шума. Мотоциклист, прокатившийся ночью по улицам города, разбудит двести тысяч человек… Шумная обстановка до самых глубин потрясает наше существо. Первые звуковые колебания распространяются по всему мозгу, а вызванное ими сотрясение — по скелету, возбуждая нервные окончания, поражая кровеносные сосуды, выделительную систему и обостряя чувствительность нервов. Снижается трудоспособность, ослабевает мускулатура желудка, изменяется объем органов, нарастает раздражительность, снижается способность сосредоточиться и наступает душевная депрессия. От этой пагубы не ограждены даже глухие… Немцы, зная губительную силу шума, включали сирену в мотор самолета и швыряли воющие бомбы… Я подозреваю, что долголетие горцев объясняется не пищей, не воздухом, не особым режимом, а ритмом жизни, гармоничным и строгим, и ничем не нарушаемой тишиной…
Ничего нового он мне не сообщил, я не раз это слышал от Лукина, но надо же так обнаглеть — чужое выдать за свое и не прибавить ни единой собственной мысли. Почему бы и мне не отплатить ему тем же — выдать за свое то, что я услышал от Лукина. Если Антон и догадается, вряд ли хватит у него дерзости упрекнуть меня в том, в чем он и сам повинен.
— Люди шумели всегда, — с вдумчивой медлительностью, нарочитым спокойствием и паузами, столь необходимыми при серьезной мыслительной работе, начал я, — напрасно ты меня и себя пугаешь. За сорок семь лет до нашей эры Ювеналий жаловался, что в жилых домах покоя нет. Тогда шумели стада, прогоняемые через город, теперь заводы, трамваи и автомашины. И боролись с этим злом всегда. Королева Елизавета Английская запретила после полуночи «играть на трубе и бить жен»… В Нью-Йорке, чтобы не будить по утрам население, молочные фургоны пересадили на пневматические шины. Беззвучно движущаяся махина стала угрозой для пешеходов, и водителям пришлось обзавестись рожками… Ты напрасно беспокоишься из-за пустяка — и с шумом, и с вибрацией мы поладим. Некоторые заводы должны будут перебраться за черту города, сирены и трамваи отойдут в область преданий, на земле и под землей водворится покой… Мы привыкли к очкам, ограждающим глаза от солнца, привыкнем и к маскам, защищающим легкие от дыма, приспособимся к прибору, устраняющему шум… Знаменитый Уатт говорил: «Шум пробуждает у невежды представление о силе…»
Я выложил ему премудрость, которую он знал и без меня, и с видом человека, который обнажил сокровеннейшие мысли и чувства, добавил:
— Само собой разумеется, что к нашей работе и твоим старикам все это не имеет ни малейшего отношения…
Я не забыл настойчивую просьбу Надежды Васильевны и нашел решение, одинаково выгодное для нас всех. Пришло время положить конец и моей игре с Антоном. Его не привлекали мои искания, я не имел ввиду заниматься тем, что ему пришлось по душе. Пора трезво обсудить создавшееся положение и разойтись.
Однажды, помнится, мы сидели с ним на крошечном балкончике моей квартиры и с удовольствием вдыхали аромат раннего цветения берез. Веяло теплом, и при каждом дуновении ветерка внизу шелестела молодая листва деревьев, окаймлявших улицу. Темнело. Мы только что поужинали и молча думали каждый о своем.