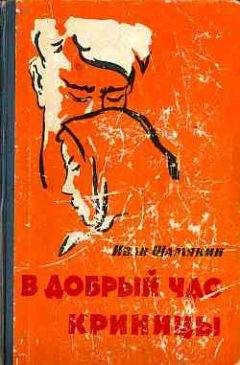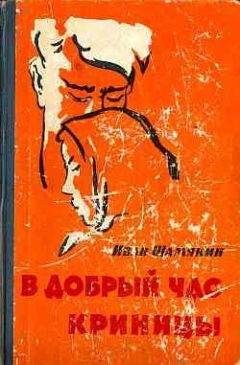Вопрос об электростанции обсудили на открытом партийном собрании. Байков и здесь высказался против. Его поддержал Шаройка. Председатель «Звезды» Пилил Радник грустно вздыхал:
— Не вытянем. Ох не вытянем.
Поспорили, но не отступили. Приняли решение: всем коммунистам, всему активу вести агитацию за её постройку. Надо было, чтобы идея электрификации завладела колхозниками всех колхозов сельсовета.
После партсобрания провели совещание агитаторов. Со-ковитов сделал доклад: просто и интересно рассказал о выгодах электрификации.
— Ну, а теперь надо бороться за практическое осуществление, — сказал Ладынин после совещания.
Он, Лазовенка и Соковитов сидели в сельсовете, курили.
— Да, да, не откладывая, — поддержал инженер. Ладынин и Лазовенка переглянулись с видом заговорщиков.
— Сергей Павлович, возьмитесь довести дело до конца, — неожиданно предложил Василь.
— Я? — Соковитов удивился, потом рассмеялся. — Значит, кось-кось, а потом за гриву. Хитрецы вы! — И серьезно — Нет, дорогие товарищи. Меня ждет родной город — Ленинград. Мне там уже и место приготовлено. Интересная работа.
— Хорошо, Сергей Павлович, — согласился Ладынин. — До конца — это Василь перехватил. Помогите поставить дело на ноги, как говорит Байков. Вы — специалист, авторитет…
Соковитов задумался.
Ладынин и Лазовенка не спускали с него глаз. Молчание тянулось долго. Наконец инженер встал.
— Что с вами поделаешь? В Минск я съезжу, помогу оформить проект и все прочее…
Василь тоже поднялся и пожал ему руку.
— Когда можете поехать? — А хоть завтра,
Под вечер, после работы, возвращаясь домой, мужчины собирались в лавке. Небольшое строеньице, сооруженное на месте сгоревшего сельмага, стояло посредине села; здесь, под прямым углом, сходились обе деревенские улицы. Но не одно это делало лавку своего рода центром, а, может быть, ещё в большей степени соседство школы, сельсовета и больницы. Лавка расположилась на самом пригорке. Отсюда хорошо были видны крыши Лядцев, синяя полоса леса, а всего отчетливей — извилистая лента реки, луг, заречные болота, небольшой березовый лесок, сиротливые кусты ольшаника, шоссе с телефонными столбами и дальше, за болотом, на песчаных холмах — сосны. Все, что находилось у реки и за нею, было как на ладони.
Заходили с топорами, с вилами — кто чем работал в этот день, с тем и шел. Иные являлись прямо из дому, поговорить с людьми, послушать и шутку и серьезную беседу. Рассаживались на бочках, на ящиках, на пустых мешках, а те, что посмелее, — на прилавках; там было небезопасно: за соленую шутку можно было получить линейкой по спине. Что тянуло сюда людей — объясняли по-разному. Жены, например, видели только одну причину: продавщицей работала молодая вдова, красавица Соня Гальчук, краснощекая, стойкими бровями и черными, как у цыганки, глазами, боевая и веселая. Все женщины были в сговоре против нее, но каждая в отдельности, приходя в лавку, заискивала перед ней. Считали, что она может приворожить любого мужчину.
Бригадир Михей Вячера, славившийся своей начитанностью и в особенности географическими познаниями, объяснял Ладынину причину этих сборищ так: — Традиция это, Игнат Андреевич. Перед войной мы каждый день в эту пору сходились в сельмаге. Потому что каждый день привозили что-нибудь новое. И каждый день добрая половина колхозников что-нибудь покупала. Скучают люди по товарам, товарищ Ладынин. Идешь и думаешь: а вдруг Гольдин что-нибудь привез? Как же тут обойти?
Ладынину понравилось такое объяснение. Он и сам стал сюда заглядывать, особенно когда народу собиралось побольше (ему это было видно из окна). Он брал свежие газеты и неприметно переводил разговор на более серьезные темы. Без него тут обычно рассказывали о всяких необыкновенных случаях и происшествиях, которые все уже прекрасно знали, однако слушали с интересом, перебрасывались шутками с Соней, безобидно подтрунивали друг над другом, а главным образом над деревенской молодежью.
— Дядька Михей, расскажи, как полицай Луиейка без штанов удирал.
И сразу смех:
— Хо-хо-хо-о-о-о…
— Ну, чего тут рассказывать? Все знают.
— Да расскажи.
Михей Адамович не спеша закуривал, хитро улыбался и начинал:
— Рассказ короткий… Доложили нам хлопцы, что у немцев на нашем маслозаводе до черта масла и яиц собралось. Пришел я к Макушенке. «Дозволь, говорю, Прокоп Проко-пович». — «Действуй, говорит, только осторожно, и хорошо бы, если получится, захватить яиц и масла». Запрягли мы две пары лучших коней в повозки, переоделись полицаями да без помехи часа за два и приехали из лесу в Добродеев-ку. Ну, известно, сразу в школу, где полицаи. Двоих на месте захватили… А этот собачий сын Лупейка, видать, по нужде за сараем сидел. Услышал выстрелы — и давай бог ноги, по огородам на выгон. Добежал до речки, а тут с перепугу ему и втемяшилось, что, не скинув штанов, речку перейти нельзя…
— Хо-хо-о-о… Ха-ха-а-а, — раскатисто гремел смех.
— Скинул он штаны… А в это время хлопцы мои вдогонку очередь из пулемета. Бросил он штаны на одном берегу, а сам — на тот… Эх, и пошел он, братцы мои, ну, точно волк затравленный. На лучшем рысаке не догнать. Так на полном ходу и вкатил без штанов в Каменку… Там гарнизон немецкий стоял… А день праздничный, теплый. Дело в августе было. На улице женщины, девчата. Вы спросите у бабки Грачихи из Каменки, как она испугалась, завидев его. Креститься начала: свят, свят…
Брат продавщицы, Гришка Лазовенка, от хохота скатился за прилавок. Соня угостила его линейкой, подав новый повод для смеха.
— Гришкина команда потом брала эти штаны в плен, — засмеялась Соня.
Семнадцатилетний Гришка, который считал себя уже совсем взрослым человеком, чуть не бросился на сестру с кулаками.
— Подожди, Михей. Конец этой операции расскажет дядька Семен. Семен Леонович, давай, выходи.
Семен — хромой, глуховатый человек лет шестидесяти. В молодости он пас стадо, а в колхозе был бессменным конюхом. Человек молчаливый, сдержанный, с лошадьми разговаривает больше, чем с людьми. Услышав, что от него требуют, он смущенно отступил к двери.
— Ну, что-о это вы, хлопцы? — растягивая каждое слово, пропел он. — Нашли чему смеяться.
— Давай, давай, Семен…
Он махнул рукой и вышел из лавки. Тогда рассказывать стала Соня, еле сдерживая смех: — Семена полицаи силком заставили работать на маслобойке. Дров заготовить, напилить, наколоть. Или там отвезти что-нибудь. Ну, партизаны и застали его на заводе. Понадобилась им для чего-то веревка, один из них и приказал: «Дед, давай веревку! Да поживей, симулянт кульгавый. Ишь разъелся на народном масле»… Хлопец был чужой, не знал, что к чему… Семен наш и заковылял. Домой ему идти далеко, а на улице полно баб. Он — к ним… — «Бабочки, дайте веревку скорее», а у самого губы трясутся и лицо как полотно. «На что тебе?» — спрашиваем мы, я тоже стояла там. «Вешать будут меня…» Тут его Акулина как услышала, да в голос. А за нею и все мы… «За что, дядя Семен? Что ты сделал? Мы все пойдем за тебя Михея просить». А он как матюкнется, ввек от него такого не слышали, как закричит: «Цыц, чертовы бабы! За то, что я, сукин сын, на фашистов работал… Вот за что!»
— И принес, братцы, он мне веревку, — добавил Михей. — Мы уже уезжали, возле сада догнал. «На, говорит, вешай, Михей». — «Что?» — спрашиваю. «Меня», — говорит. Разозлился я. Что он, думаю, за бандитов нас считает или рехнулся старик?.. «Пошел, — кричу, — к черту, а то как повешу тебя по спине кнутом, не погляжу и на старость». Но потом как ни принуждали его опять идти на маслобойку, — ни за что!.. И били полицаи и в комендатуру таскали — не пошел. Даже на ремонт дороги ни разу за всю оккупацию не вышел, хоть и доставалось ему за это. Чаще всего в качестве рассказчика выступал сам заведующий сельпо Гольдин. Этот маленький, шустрый, веселый человечек каким-то чудом успевал побывать всюду.
Колхозники любили его, но торговая деятельность Голь-дина служила предметом постоянных насмешек.
— Гольдин, ты у Семена самосад закупи. На год торговать хватит. Сразу план выполнишь…
— Ты бы хоть этот страховидный хомут заменил другим… А то он уже всем глаза намозолил…
— Атрох из Выселков, выпивши брался нашу лавку в пруд затащить…
— А он может…
— Смотри, Гольдин…
— Смейтесь, смейтесь… Через месяц такой сруб привезу, что мое почтение.
— Долго ты его рубишь…
Один только человек никогда не принимал участия в этих сборищах, избегал даже заходить в эти часы в лавку — это Василь Лазовенка. Он не раз с возмущением говорил Ладынину и Гольдину:
— Что за дурная привычка собираться в лавке и трепать языком. Лучше чем-нибудь по хозяйству занялись бы…
Ладынин улыбался в усы и молчал. Гольдин, как всегда соглашался: