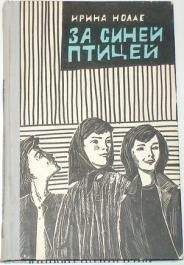— Разыскала?
Маша с сомнением покачала головой:
— Вряд ли… Где уж там разыскать, когда война началась, все на фронт ушли? Да если бы разыскала, то разве воровать пошла? А то у нее что получилось? Мурка осталась в Таганроге, Санька в тюрьме, а девчонка одна-одинешенька по Москве мечется. Вот, я думаю, тут-то она и пошла воровать и засыпалась на первом же деле. Может, что и не так было, но я это себе так представляю.
— Значит, у нее и мать и отец были?
— Мурка писала, что они не жили вместе. Не то мать с кем-то спуталась и отца бросила, не то он от нее уехал, но только Галька мать свою просто ненавидела, а отца любила без памяти. Я, бригадир, всех подробностей не знаю. Что можно из писем узнать? Да и Галька, по всему судя, не очень-то о себе любила рассказывать. Шурик писал: скрытная она и гордая, а душа у нее вся искалечена.
— Ты думаешь, она тебя послушается? — тихо спросила Марина.
Маша сразу не ответила, потом вздохнула:
— Нет, не послушается. У нее сейчас в душе еще хуже, чем когда ее Санька к нам домой привел.
— Ну, так, значит, и говорить тебе с ней нельзя.
— Нельзя, — согласилась Маша. — Но девчонки меня послушаются! — Она опять стукнула кулачком. — Они про меня еще на воле слышали. Соловья вся Марьина роща знала, даром что я тогда уже второй срок отбывала. Меня за авторитетную воровку все жулье считало, так что с этими пацанками разговор будет короткий. Хочешь, бригадир, заставлю их работать? Тут ведь только двух-трех отколоть надо, а потом и все лапки кверху подымут. Хочешь?
— Нет, Маша, не хочу, — твердо ответила Марина. — Не хочу, потому что они работать начнут не по сознанию, а только потому, что им Соловей прикажет. А это значит — опять воровские обычаи, воровской закон. Ты на меня не сердишься за эти слова? — Марина положила свою руку на руку Маши. — Нельзя, чтобы они начали здесь свою жизнь по воровским законам. Понимаешь?
— Верно, бригадир, нельзя. И мне сердиться на тебя не за что. Слышала, как они мне кричали, что я «завязала»? Знаешь, что это такое? Это когда вор все свои старые дела «завязывает» и уходит из воровского мира.
— Навсегда?
— Если крепкий человек, то навсегда. Только ты меня больше об этом не спрашивай, бригадир… Рано тебе все знать, да и не поймешь ты ничего.
— Хорошо, не буду, — согласилась Марина. — Ну, а как же с бригадой?
— Что с бригадой? Подождем еще день-два.
— Нельзя ждать, Маша! У нас всего три дня на освоение, а потом норму надо давать. Я все-таки поговорю с ними сама.
— Ничего у тебя не получится, вот увидишь.
— Ну, тогда мне одно остается — к капитану идти и отказаться от бригадирства.
Маша рассмеялась:
— Ну, сходи, сходи… Поплачь. Послушай, что он тебе на это скажет. Нет, девочка, наш капитан знает, что делает, и уж если назначил тебя командовать, то никаких ему твоих слез не нужно. Ты, скажет он тебе, грамотная, образованная, комсомолка и все такое — умей людей на путь наставить. Вот что он скажет тебе, бригадир, и правильно скажет!
— А если у меня ничего не выходит? — сердито спросила Марина. — Что же я, так и буду с ними в прятки играть: девушки, где вы? А девушки сидят себе в ящиках да посмеиваются.
— Кто еще смеяться будет — неизвестно. Может быть, ты и посмеешься. Только все это не так скоро делается, как ты думаешь. Тебе все сразу хочется: раз! — в цехе сидят, два! — норму делают, три! — матом не ругаются, одними культурными словами говорят. А такая муть только в книжках пишется да в сказках рассказывается: поговорил добрый начальничек с заключенным, внушил ему, что хорошо, а что плохо, — и готово дело! — перековался вор, пошел работать отказчик, стала спекулянтка три нормы давать. А того не понимают эти сказочники, что из нашего брата надо тихонечко и незаметно, без крика и шума, одну душу вытащить, а другую на ее место положить. Да так положить, чтоб мы об этом не знали и не догадывались даже. Если догадаемся — назло свое будем доказывать. Так какое же терпенье надо тому человеку, кто захочет одну душу другой подменить? Это, подружка дорогая, потруднее, чем новый глаз человеку вставить… Ну, пойдем спать. Так мы с тобой до подъема проговорим.
В бараке все спали, только тетя Васена сидела у стола под лампочкой и вязала бесконечное кружево из ниток, добытых таинственными путями в швейном цехе.
— А если они еще неделю будут в ящиках сидеть? — задала Марина вопрос, который задавала уже, наверное, раз десять.
— Да что я тебе — на кофейной гуще сгадаю, что ли? — рассердилась Маша. — Спи давай, не морочь мне голову, утро вечера мудренее. — Она решительно отвернулась к стенке и натянула на себя одеяло.
Утром у хлеборезки, где все бригадиры получали хлеб, появление Марины и Маши вызвало веселое оживление. Казалось, что все только сейчас заметили, что на лагпункте организовалась еще одна бригада. Причем бригада какая-то особенная: с пониженной нормой выработки и с привилегиями в виде отдельных коек, новеньких одеял и занавесок на окнах. Кроме того, в эту бригаду начальник отдал лучших вязальщиц — Машу Соловья и Варю-армяночку. И наконец, бригадир этой бригады чем-то отличался от остальных бригадиров. Все уже знали, что Марина — «образованная». Но это еще полбеды: к «образованным» в лагерях относились или с почтительным уважением, или с пренебрежительной усмешкой — смотря по тому, как себя этот человек сумеет «поставить». Но вот инцидент в третьем бараке, о котором тоже знали все, приобрел новую и неожиданную для Марины окраску.
— Ты как — всех подряд по морде бьешь или по очереди? — с ехидством спросил Марину кто-то из бригадиров.
— А верно, что ты кашемировую шаль уперла?
— Это их так в вузах учат, чтоб жизни не боялись!
— Слышь, Воронок, берегись Нюрочки: она тебе за Мишку-парикмахера глаза выцарапает.
Кто такая Нюрочка, Марина, конечно, не знала, но поняла, что появляется еще одно лицо, с которым так или иначе, а ей придется познакомиться поближе.
— Не связывайся, бригадир, — шепнула ей Маша, — дыши спокойно — они не со зла. Ты не обижайся…
Не понижая голоса, Марина ответила:
— А я и не обижаюсь. Только кто такая Нюрочка?
Маша указала на худощавую черноволосую женщину лет тридцати, кокетливо подвязанную ярким платком низко над бровями. На затылке концы платка были завязаны широким узлом и спускались на спину — такова была «мода» на всех женских подразделениях лагеря.
Нюрочка заметила жест Маши, метнула на Марину недобрым взглядом и отвернулась, сказав что-то вполголоса стоящей рядом женщине с рябым лицом. Обе они громко рассмеялись. Марина поняла — говорят о ней и смеются над ней.
В столовой, как и вчера, сели за стол втроем: бригадир, помощник и инструктор.
Маша заметила:
— Однако наши пацанки чем-нибудь разжились.
Марина не поняла:
— Как разжились?
— Да очень просто — сплавили какие-нибудь свои тряпочки за зону. Когда это они только успели? Да и барахлишка-то у них ничего нет.
Вартуш подняла на Машу красивые, всегда немного печальные глаза и сказала:
— Вчера им Даша картошки принесла — печеной. А наша Эльза хлеба передала. Только это — не за тряпки, а так…
Маша помрачнела:
— На черта они не в свое дело лезут…
А Марина откровенно обрадовалась: она никак не могла избавиться от мысли, что девчонки сидят в своих ящиках голодные.
— Надо потолковать с Дашкой, — недовольно продолжала Маша. — А то она нам всю музыку испортит.
Марина возмутилась:
— Что же ты, собираешься их измором взять? Какие-то у тебя, Маша, методы странные…
— Странные или не странные, а уж какие есть. Тут сейчас на нас с тобой должно все работать: и что сухарики кончаются, и что вот дождичек припустил… Не очонь-то теперь в ящиках насидишься. Я тогда в сушилке три дня отсиживалась, и то стало тошно.
— Эльза сказала: больше хлеба не даст, сами на пайке сидят, — опять проговорила Вартуш.
— А картошка? — строго посмотрела на нее Маша.
— Кончили вчера картошку копать… — печально ответила Вартуш и вздохнула. — Мне Даша тоже дала. Вкусная… Вчера комендант разрешил по котелку в зону принести. Вот они и дали нашим девушкам. А больше не дадут — нету.
До обеда просидели в цехе, почти не разговаривая. Маша была внешне спокойна, только все чаще и чаще поглядывала в окно, где все настойчивее моросил холодный, мелкий дождь. А Марина, глядя на него, снова ощутила тревожное беспокойство: если до вечера они просидят в ящиках, то завтра большинство ляжет в стационар с температурой. Она вспомнила шелковое платьице Лиды Векши и сарафан Нины Рыбаковой. Впрочем, их всех теперь одели в новенькие телогрейки, так что, может быть, выдержат.
— Маша, а в этих ящиках сильно протекает?