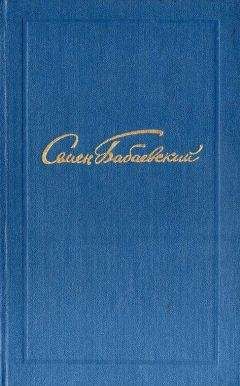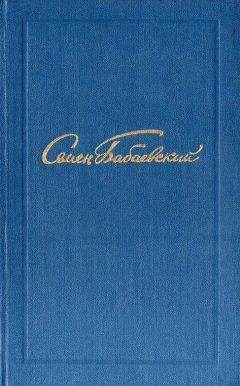Кондратьев отодвинул тарелку и положил на ее место коробку папирос.
— Николенька, это ты задымишь, как на заседании, — проговорила Наталья Павловна.
— Извини, привычка, — ответил Кондратьев, закуривая и угощая Сергея. — Радоваться своему успеху не только не грешно, а даже похвально, ибо в этом чувстве как раз и есть то хорошее, что окрыляет человека и прибавляет ему сил, энергии… Но жизнь учит: радоваться можно, а только при этом не следует забывать, что всякая чрезмерная радость имеет свойство опьянять людей, и часто от этого хмельного состояния у некоторых товарищей начинает кружиться голова — вещь весьма неприятная… и даже опасная.
— Это ты о ком? — настороженно спросил Сергей, сурово сдвинув брови.
— Вообще, — ответил Кондратьев и продолжал: — И еще жизнь учит: тот, кто переоценивает себя, непременно покрывается скорлупой зазнайства и становится не руководителем, а обывателем, а это к добру не ведет.
— Николенька, может, переменил бы тему разговора, — сказала Наталья Павловна, — а то Ирина смотрит на тебя, и ей скучно…
— Что вы, Наталья Павловна, — поспешно ответила Ирина, — я слушаю… Это интересно…
— По-твоему, Николай Петрович, — сказал Сергей, — получается так: те, кто своими усилиями добились успеха, должны на все закрыть глаза и ничему не радоваться… Я не согласен. На фронте как было? Даже маленькой победе мы радовались, и она воодушевляла нас на новые подвиги. А как же?
— Правильно, — согласился Кондратьев, — но разве не было и на фронте случаев, когда успехи кружили командирам головы и во втором бою эти командиры проигрывали сражение? Почему? Переоценили свои силы… Вот этого надо бояться.
— Ну, Николенька, к чему ты все это говоришь. Налей лучше вина…
— Нет, погодите, Наталья Павловна, — возразил Сергей, — вина мы еще выпьем… Я начинаю догадываться… Николай Петрович, это надо понимать так: мы с тобой опьянены успехом? Так, что ли?
— Зачем же так сразу конкретизировать? — с улыбкой говорил Кондратьев. — Я об этом ничего не сказал… Но если ссылаться на какие-то свежие примеры, то мы тут не безгрешны.
— А точнее, ты хотел сказать, — проговорил Сергей, ни на кого не глядя, — хотел сказать, что грешен я…
— Да, грешен!
Наступило неприятное молчание. Кондратьев прикуривал погасшую папиросу и искоса посматривал на Сергея, который низко склонил голову, сидел молча, и уши его горели. Ирина не могла понять, что случилось, и то виновато улыбалась, то смотрела на Наталью Павловну.
— И еще беды большой нет в том, — продолжал Кондратьев, — если руководитель, возможно по своей молодости или неопытности, лишнее подумал о себе, ошибся, переоценил свои силы. Беда случается тогда, когда такой товарищ не имеет мужества признать свои ошибки, когда он не принимает во внимание критику и боится открыто сказать о своих слабостях.
— Ну, хватит вам тут заседание устраивать, — сердито сказала Наталья Павловна и налила в рюмки вина: — Давайте выпьем за настоящие и за будущие успехи…
Выпили молча и начали разговаривать о разливе Кубани, о видах на урожай. Кондратьев рассказывал о том, как он ездил в «Красный кавалерист» и битый час выслушивал жалобы Хворостянкина на Татьяну Нецветову. Разговор не клеился. Наталья Павловна подала чай, угощала Сергея вареньем, сказала, что именно это варенье нравится Ирине. Сергей пил чай неохотно, ни разу не подняв голову и не посмотрев Кондратьеву в глаза.
Вскоре гости попрощались и ушли, и в доме стало так тихо, что отчетливо слышались чьи-то шаги за окном.
— Николенька, ну зачем ты его так? — сказала Наталья Павловна и закусила свою маленькую нижнюю губу. — Ведь он все понял…
— И хорошо, если понял.
— Обидел же… А за что?
— Со многими председателями мне приходилось работать, но ни к одному я не питал такого уважения, как к этому бровастому парню… Но я боюсь, как бы не сошел он с правильного пути… Молод, горяч, самолюбив… А я за него в ответе…
— Да он же всю ночь не будет спать!.. Ведь у него внутри все закипело! Разве ты не видел?..
— Видел, и этого я хотел.
Кондратьев подошел к раскрытому окну, приподнял занавеску и долго, о чем-то думая, смотрел на видневшийся сквозь листья яблони лоскуток неба, густо усыпанный звездами.
На площади и по улицам Рощенской горели огни, и хотя накал лампочек был обычным, как и во всякую ночь, Сергею казалось, что именно в этот час свет над уснувшей станицей разливался слишком тускло; и еще казалось ему, что фонари и на столбах и у входа зданий смотрели на него как бы с усмешкой. От этого еще больше болело сердце.
Сильнее прижимая локтем руку Ирины, он старался идти спокойно, но не мог и невольно ускорял шаги.
— Сережа, и куда ты спешишь? — спросила Ирина.
— Я не спешу… Иду, как всегда… Слышала, что Кондратьев говорил?
— Слышала.
— И что ты на это скажешь?
— Скажу то, что Николай Петрович неправ…
— А почему же он неправ?
Они остановились под деревом. В листьях испуганно захлопала крыльями птица и улетела. Стало тихо. Ирина посмотрела Сергею в глаза, хотела, чтобы он понял ее без слов. Сергей только удивленно сдвинул брови:
— Ну, чего так смотришь?
— Почему ты ему не ответил?
— Я знаю Кондратьева. — Сергей отломил веточку. — Ему не слова мои нужны, а дела… Завтра же поеду в район…
Домой они шли молча. Так же молча Ирина готовила постель. Сергей стоял у окна и смотрел на ее проворные руки. Затем он разделся, вышел из комнаты и под краном обмылся до пояса. Когда вернулся, Ирина уже лежала в кровати, повернувшись лицом к стене. «Ну что ж, помолчим до утра», — подумал Сергей и тоже лег, ощутив на влажном теле сухую и прохладную простыню.
В комнате было темно. Сергей лежал на спине с открытыми глазами, а в голову с такой настойчивостью лезли мысли, обрывки чьих-то фраз, что отбиться от них было невозможно. То ему вспоминался нежданный приход отца, и Сергей снова спорил с ним; то видел молчаливое и грустное лицо его, седые клочья бровей, закопченные усы; то вдруг лицо старика постепенно менялось, молодело — вот уже исчезли усы, и перед ним стоял Кондратьев; то никого не было, виднелись лишь окна, а в ушах звучал знакомый голос: «И… если ссылаться на какие-то свежие примеры, то мы тут не безгрешны…»
Ирина тоже не спала и слышала, как Сергей то тяжело вздыхал, то ворочался. Потом он встал, закурил, подошел к окну и, не докурив папиросу, снова улегся, сердито взбив кулаками подушку.
— Сережа, что ты там с подушкой воюешь?
— От жары не могу уснуть. И что за ночь выдалась такая душная!..
— А мне холодно.
И она наклонилась к нему, и распушенная коса спадала ей на плечи, резко оттеняясь на белой ночной сорочке. Она примостилась возле него и стала приглаживать жесткий и взлохмаченный чуб, ощутив на лбу испарину.
— Эх, ты! Вздыхатель… Знаю, знаю, не жара тут виновата, а Кондратьев. — Она наклонилась к нему. — Да ты хоть со мной поговори… Ну, чем ты так обеспокоен?
— Если бы он прямо сказал… Пусть бы даже поругал, и я бы подчинился, к этому я привык еще на войне… А вот самому себя заставить…
— А ты спокойно все обдумай…
— Не могу спокойно… Понимаешь, не могу! Сил у меня нет… И ты не уговаривай и не жалей…
— Ну хорошо, — сказала Ирина, — не буду… А только ты полежи со мной, успокойся…
И хотя на сердце у Сергея после разговора с Ириной стало спокойнее, но спал он плохо и мало. Поднялся рано. Ирина проснулась, когда Сергей упражнялся на турнике, — железный лом, укрепленный между двумя стволами акаций, издавал жалобный писк.
— Ну, Ирина, давай мне побыстрее закусить, — сказал он, остановившись на пороге и надевая рубашку.
— Едешь?
— Да!
Ирина начала готовить на стол. Сергей наскоро закусил и уехал.
Не знаю, случалось ли вам когда-нибудь наблюдать лунную ночь в горах? Когда из-за скалы только что прорежется красный диск и по всему ущелью побегут тени и блики, а над рекой разольется жиденький туман, сквозь который слабо угадываются каменистые берега и чуть-чуть виден тусклый огонек чабанского костра, — в такую минуту все предстает перед вами картиной заманчивой и новой… Какая-нибудь плохонькая, до крайности облысевшая круча, на которую при дневном свете и смотреть не хочется, теперь выглядит скалой, великолепной и гордой, невысокий кустарник, такой, что днем, проезжая мимо, никто на него не поведет и глазом, в лунном сиянии сделался таким нарядным, закурчавился так пышно, что уже напоминает собой виноградник где-нибудь на берегу Черного моря; сосновый лес на горе темнеет грозной тучей, а поверх этой тучи переливается горячая бронза; пастушья кошара у скалы, самая простая кошара, каких здесь немало, кажется не иначе как сказочным теремом, приютившимся на красивом взгорье…