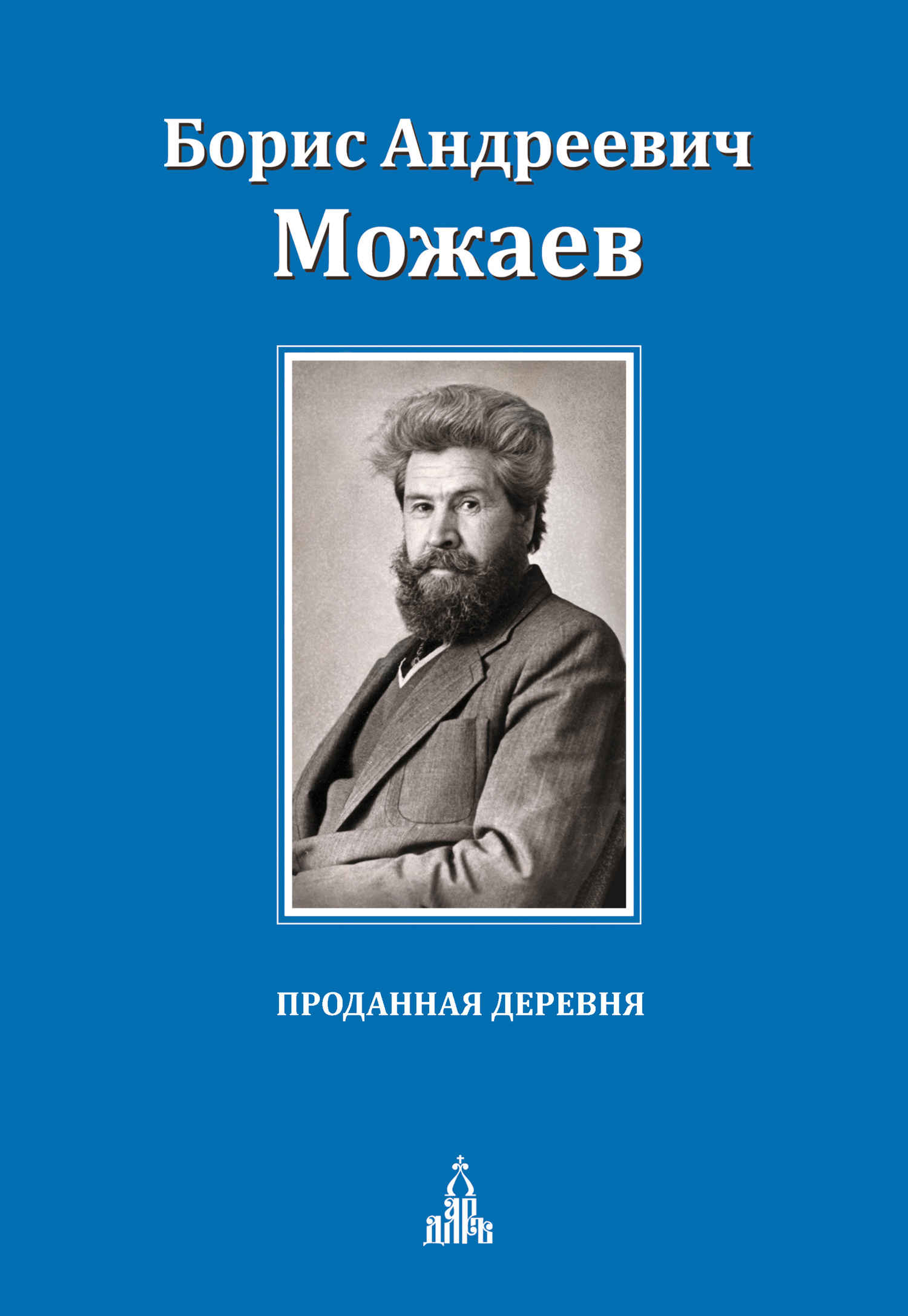то человечество сразу исправится, заживет на новый, счастливый лад.
Хороши и античные прогрессисты, эти обвинители Сократа, казнившие его; в одном из пунктов обвинения прямо указывали, что Сократ враждебно относится к демосу, потому что цитирует «худшие места из знаменитейших писателей», и даже цитату ему инкриминировали из Гесиода: «Дела позорного нет, и только бездействие позорно». Эти слова Гесиода трактовались вожаками афинской демократии применительно к Сократу как призыв к преступному «активизму», направленному, естественно, против демоса. Вот, мол, каков наш Сократ, он молодежь развращает зловредным способом цитирования классиков. Намекает, одним словом.
О чем говорить! Эти и подобные им древние как мир истории о злоключениях литературных произведений всем известны, и повторялись они почти в каждую эпоху на свой лад.
Но вот что чудно! Все охранительные барьеры от так называемого вредного воздействия литературы на общество канули в Лету вместе со своими прогрессивными и реакционными системами, а запрещенные строчки, а Гомер и Гесиод все живут и рассказывают нам о той же цивилизации куда красноречивее, чем суровые указы и трактаты диктаторов и дешевые поделки охранителей всех рангов, взятых вместе. Материальная основа и социальная структура любой цивилизации эфемерны, преходящи, совершенные творения искусства вечны.
В одном из своих последних выступлений американский президент Джон Кеннеди сказал, что через тысячи лет от нашей цивилизации останутся не небоскребы, не реактивные самолеты, а несколько лучших произведений литературы, которые и расскажут далеким потомкам о нашей жизни.
Приводя эти слова, я вовсе не пытаюсь отстаивать истинность предсказания покойного президента, а хочу только подчеркнуть неотъемлемое право литературы считать себя составной частью цивилизации, порою выражающей глубинную сущность ее.
Если эту особенность литературы признают люди, далекие от писательства, да еще и государственные деятели, то нам, литераторам, делать это, как говорится, и сам бог велел.
Но еще мало проку в том, чтобы утверждать свое неотъемлемое право на выражение сущности цивилизации; куда важнее попытаться определить особенности нашей цивилизации и вытекающие отсюда если и не задачи, то, по крайнем мере, обязанности художника, определяющие долг его перед обществом.
Я знаю, никакой моей вины
В том, что другие не пришли с войны,
В том, что они – кто старше, кто моложе —
Остались там, и не о том же речь,
Что я их мог, но не сумел сберечь.
Речь не о том, но все же, все же, все же…
В этих скупых строчках замечательного русского поэта Твардовского так много сказано об отношении искусства к действительности, художника – к обществу своему, о его ответственности за все то, что делает общество, и даже за то, что делается от имени общества.
Казалось бы, что может сделать один художник в разливанном море всеобщего безумия? Ну кто из сильных мира сего, из власть имущих слушает его? Вершители судеб народных, от действия которых зависит благополучие и даже целостность всей цивилизации, привыкли кидать на весы истории не слова пророческого откровения, а весомые доводы экономической мощи и военной силы. Да ведь и то сказать, слово художника, труд его – сугубо индивидуальное, так сказать, кустарное дело; художник не стоит за пультом управления электронных машин, не программирует работу многотысячных промышленных цехов, не командует мобильными и мощными войсковыми соединениями, не создает с помощью подвижной плазмы вещество разрушительного действия, не подписывает указы о всеобщей мобилизации, и войну объявляют или начинают без его ведома, и мир подписывают, не спросясь его. Его частное заявление или даже объединение – подписи многих творцов, поставленные аккуратным столбцом и для вящей убедительности помещенные под заглавным штампом какого-нибудь объединения, или комитета, или ассоциации, хотя и стоящее дело, но, к сожалению, никого и никогда не останавливало от покушения на этот самый мир. Вспомните широко известные красочные прокламации тридцатых годов еще довоенного «Пакта Рериха» в защиту памятников культуры или послевоенного заявления Всемирного комитета борьбы за мир. Кого они остановили? Гитлера или Муссолини? Может, они остановили войну во Вьетнаме, в Кампучии или в других местах? Нет, войны начинались и заканчивались независимо от воли этих борцов за мир. То есть потребность и участие в борьбе за мир художника необходимы, но результат его усилий порою сводится к нулю.
И конечно же, прав поэт, сказавший, что вроде бы и нет его вины в том, что война вспыхнула как очевидный акт безумия и что была она тяжелой и кровопролитной. И тем не менее не случаен этот горький вздох запоздалого сожаления, близкого к ощущению собственной вины: «…и все же, все же, все же…»
В чем же тут дело? Должен ли художник отвечать за общий ход развития истории цивилизации или не должен? А как же тогда свобода творчества? А право художника выражать самого себя? Чтобы ответить на эти вопросы, я позволю себе опереться на опыт гениальных предшественников наших.
Давно уж подмечена двойственность творческого процесса – с одной стороны, художник должен творить в полной независимости духа от расхожих понятий и требований общественного бытия или условий среды; с другой же – он обременен, по выражению Пушкина, высшим сознанием своего божественного предназначения: «…глаголом жечь сердца людей», то есть и верой и правдой служить своему обществу. Наиболее ярко эти две как бы взаимоисключающие тенденции проявились в русской литературе в творчестве самого Пушкина, у немцев – в творчестве Гете, у англичан – Шекспира, у итальянцев – Данте.
Не раз нашего Пушкина бросало от одного полюса к другому, от пламенных призывов, от угроз поэтических: «Тираны мира, трепещите! А вы мужайтесь и внемлите, восстаньте, падшие рабы!» – до глубокого и мрачного отчаяния, до горького признания в тщетности пробудить народное сознание к решительному действию против несправедливости, насилия и рабства: «Свободы сеятель пустынный, я вышел рано до звезды; рукою чистой и безвинной в порабощенные бразды бросал живительное семя, но потерял лишь только время, благие мысли и труды».
В этом окаянном наваждении, порожденном сомнением в силе и надобности Слова, пребывали не раз и великий Данте: «Молчит, объятый страхом, люд смиренный», – и Шекспир:
Зову я смерть. Мне видеть невтерпеж
Достоинство, что просит подаянья,
Над простотой глумящуюся ложь,
Ничтожество в роскошном одеянье.
…………………………………………………….
Все мерзостно, что вижу я вокруг,
Но жаль тебя покинуть, милый друг!
Дело тут не просто в дисгармонии мира, а в том, что тоска и отчаяние художника порождены несоответствием реальной действительности тому высокому предназначению человека, которое он выпестовал и