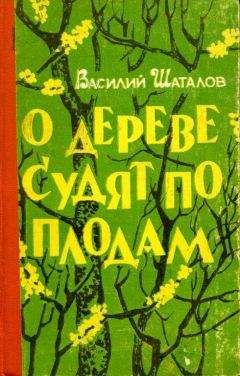Закончив чтение, Ораков пересел на прежнее место, ближе к секретарю райкома.
— Ну, что ты скажешь о письме? — нарочито бодро спросил он башлыка, как будто речь шла о чем-то пустячном, веселом.
— Это не письмо, Это — грязь, клевета! — снова заволновался Ораков и почувствовал, как кровь ударила в голову. Теперь башлыка возмущала не только анонимка, но и сам секретарь и занятая им по отношению к нему позиция.
«Как портит людей карьера, — думал о секретаре Ораков. — А ведь еще совсем недавно это был такой простой и милый парень».
— Возможно, ты и прав, что данное письмо — это грязь, — строго сказал секретарь. — Но к честному человеку она не пристает. И тебе не стоило бы так нервничать.
— Неправда, секретарь. Грязь всегда остается грязью, — резко ответил Ораков. — Если она и не пристает, то все равно пачкает.
— Знаю, что это — неприятная вещь. И все же это сигнал. И мы должны как-то отреагировать на него.
— Значит, вы не доверяете мне? — понизив голос, спросил Ораков, догадавшись, к чему клонит собеседник.
— Ну, почему же! Доверять мы тебе доверяем. Но ведь иногда и проверить не мешает…
— Ах, вот как! — упавшим голосом произнес Ораков. — Ну, что ж… Проверяйте. Когда хотите. Хоть сейчас.
— Вот и договорились, — сухо отметил секретарь, вставая. — Сегодня у нас какой день? Среда? Очень хорошо. На той неделе, в пятницу, собери-ка, пожалуйста, народ. Мы приедем и потолкуем об этом письме на общем собрании. А перед этим мы пошлем к тебе комиссию для проверки.
Домой башлык возвращался в подавленном состоянии. Понуро, сгорбившись, сидел в машине. Вспомнились и больно кольнули в самое сердце слова секретаря райкома о том, что, мол, иногда не мешает проверить и председателя. Можно подумать, что он работает бесконтрольно, что его никогда и никто не проверяет! Все обстоит как раз наоборот. Его проверяют даже намного чаще, чем это было бы нужно. Секретарь знал об этом. И уж совсем непонятно, зачем нужны еще какие-то комиссии?
«Нечего сказать, дожил, — горестно вздохнул Ораков, — пройдет неделя и имя твое будут трепать на виду сотен людей. А все потому, что люди не хотят спокойно жить: им обязательно надо кого-то травить, кому-то причинять зло, портить жизнь».
Прошло немногим больше недели. Наступила пятница.
Комиссия, направленная в колхоз, проверила все отрасли хозяйства, но никаких, хоть сколько-нибудь значительных нарушений в их деятельности не обнаружили. Одновременно была произведена и проверка подлинности многочисленных подписей, сделанных в конце присланного в райком письма. Выяснилось, что ни одной действительной подписи в нем не было. Колхозники, которым, якобы, они принадлежали, увидев эти «подписи», с возмущением отвергали их, решительно заявляя, что они не только не подписывали никакого письма, но и не видели его.
В числе многих фамилий, стоявших под письмом, оказались и фамилии двух бывших председателей колхоза «Октябрь» — людей пожилых, уважаемых. Когда им показали письмо и их подписи, старики были потрясены. А когда пришли в себя, то первым делом потребовали, чтобы им показали «того подлого шакала», который перед всем колхозом покрыл позором их седые головы.
Результаты своих проверок комиссия сообщила секретарю райкома, который, как и обещал, в пятницу приехал в колхоз.
Колхозный клуб в этот вечер был переполнен. А тишина в нем стояла такая, как будто в клубе не было ни души. Места за столом президиума заняли представители райкома партии во главе с первым секретарем, Бегенч Ораков, секретарь колхозного парткома, руководители передовых бригад, несколько стариков — членов Совета старейшин, доярки, механизаторы.
Поднявшись, секретарь райкома огласил повестку дня: «Обсуждение письма, поступившего в райком» и коротко изложил его содержание. А затем попросил колхозников высказаться по обсуждаемому вопросу. Зал зашевелился, загудел. Участники собрания о чем-то толковали между собой да изредка поглядывали на председателя. Внешне Ораков казался спокойным, даже слегка задумчивым, и смотрел поверх людей куда-то в конец зала. Иногда его взгляд делался скучающим, обращенным в себя, и как бы говорил: «Все это ни к чему, товарищи. Право, ни к чему. Только зря время теряем». Наконец, перекрывая слитный шум собрания, из середины зала раздался зычный голос колхозного конюха Черкеза Меляева:
— Товарищ секретарь, можно мне?
И зал мгновенно затих.
— Пожалуйста! — сказал секретарь райкома.
— А этот, который вам прислал письмо, видать, изрядный трус. Нашего башлыка как хотел испачкал, а сам за чужие спины спрятался. Это же подлость, товарищ секретарь! Это же, как говорится, удар ниже пояса… — загорячился Черкез.
Секретарь постучал карандашом о горлышко графина:
— Прошу говорить по существу.
— Хорошо. Скажу и по существу, — весело и громко сказал конюх. — По-моему, тот, кто прислал вам письмо, просто… негодяй!
Конюх сел. И тут же со всех сторон послышались гневные возгласы:
— Надо найти этого скорпиона и судить за клевету!..
— Правильно! Судить надо… Да разве найдешь его!
— А почерк на что?.. Пусть милиция поищет. Человек — не иголка в ворохе сена.
— Верно! Надо найти. Пусть попарится, где следует!
Когда волнение в зале улеглось, слова попросила доярка Алтын Шаммыева. Ее яркие глаза светились умом, строгой застенчивостью, добротой. Низко над глазами — ровные шнурочки бровей. На щеках под смуглой кожей — густой нежный румянец. Алтын улыбается редко, но если улыбнется, глаз не оторвешь от ее миловидного лица. В колхозе эту женщину ценят за труд и скромность; как доярке ей не было равных. Портрет ее уже несколько лет не сходит с колхозной доски Почета.
Алтын встала, поправила на голове шерстяной, в ярких розах платок и в полной тишине негромко произнесла:
— Пусть никто не подумает, что я хочу взять под защиту нашего башлыка — зачем защищать того, кто в этом не нуждается! Я хочу разобраться лишь вот в чем: почему автор письма скрыл свое имя? Да потому, что написал он сплошную ложь, и ему стыдно подписывать свое гнусное письмо. Вот он и поставил чужие фамилии. И цель такого письма ясна: выместить на председателе какую-то свою обиду, отомстить ему за что-то. За что? Пока неизвестно. Да и вряд ли когда-нибудь узнаем. Если бы автор письма был человеком честным, он мог бы покритиковать башлыка открыто, в глаза. Никогда и никому Бегенч-ага за это не мстил, никого не преследовал — об этом каждый знает. В конце концов анонимщик мог бы зайти к вам, товарищ секретарь, и поговорить о наболевшем — дорогу в райком мы, слава богу, знаем хорошо. Если ты честен и хочешь кого-то поправить ради общего блага, зачем тебе прятаться, скрывать свое имя? Говори прямо.
Лично я помню товарища Оракова с той минуты, когда он только что приехал в наш колхоз. Чего скрывать — жили мы тогда бедно. Порядка в колхозе не было. На трудодни выдавали гроши. Народ из колхоза уходил, искал, где лучше. И башлыки у нас не держались. Вот в эту самую пору и приехал к нам Бегенч-ага. Много ему пришлось поработать, много положить сил, здоровья. Теперь мы ходим в передовых, всюду нас хвалят. Почему же раньше этого не было, при других башлыках? Почему? Я спрашиваю. А потому, что у них не было такого таланта, каким обладает Ораков. Он всегда в гуще народа, учится у него и сам учит его, Бегенч-ага не раз приходил к нам, дояркам. Спросит, как живем, в чем нуждаемся? А потом перейдет к делу и начнет расспрашивать о том, что нужно, чтобы еще выше поднять надои? Бывало, попадет он под горячую руку, мы распалимся и накричим на него. Но никогда не видели, чтобы он как-то вышел из себя, нагрубил, выругался. Такого не было ни разу. Он выслушает, как обычно, попросит немного потерпеть и пообещает помочь. Пройдет день — другой, смотришь — и обещанная помощь приходит! Не секрет и то, что на примере нашего башлыка мы воспитываем наших детишек. Чуть ли не каждый день внушаем им: «Будьте такими же честными, как наш башлык. Будьте такими же добрыми и обязательными, как наш Бегенч-ага». И вот у кого-то поднялась рука написать такое письмо.
Алтын замолкла, посмотрела по сторонам, словно желая кого-то отыскать в зале. Потом, гневно блеснув горячими своими глазами, звонко произнесла, почти крикнула:
— Да пусть хоть еще тысячу таких же анонимок пишут на него — все равно никто не поверит в них! Для нас Бегенч-ага всегда был и останется настоящим коммунистом!
Зал вздрогнул от аплодисментов.
Пока говорила доярка, Ораков, опустив глаза, сосредоточенно смотрел в одну точку на столе. Когда же до него донеслись последние ее слова, он почувствовал, как к горлу подкатил комок. Бегенч с трудом справился со своей слабостью, встал и поклонился залу. В ответ еще громче, еще дружнее раскатились рукоплескания. Перекрывая их, из зала неслись возгласы: