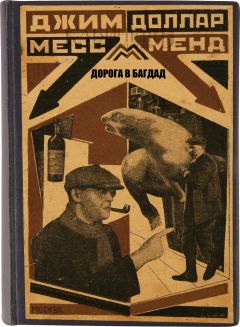— Ревекка Борисовна, вот бы вам и попробовать выступить, — ехидно воззрился полный студент. На шее его, как у лысого какаду, прыгал шариком розовый зобик.
— Не отказываюсь, — сухо сказала курсистка.
Куся подсела к ней, обняв ее нежно за талию.
— Спасибо за мужество, товарищ Ревекка, — через стол протянул ей руку Десницын, — поверьте мне, чем бессмысленней вот такие попытки с точки зрения часа, тем больше в них яркого смысла для будущего. Если бы наши коллеги в мрачную пору реакции слушали вот таких, как милейший Виктор Иваныч (он бровью повел в сторону полного оппонента), то мы не имели бы воспитательной силы традиций. Грош цена демонстрации, когда масса уже победила, когда каждый Виктор Иваныч безопасно может окраситься в защитный цвет революции.
— Это личный выпад, я протестую! — крикнул, запрыгав зобиком, полнокровный студент в возмущенье. — Если товарищ Десницын не возьмет все обратно, я покидаю собранье!
— Идите за нами, а не за кадетами, и я скажу, что ошибся.
Пожимая плечами, с недовольным лицом, оппонент подчинился решенью.
Долго, за ночь, сидели в беседе горячие люди. Решено было завтра в двенадцать созвать в самой обширной аудитории сходку. Ревекка Борисовна выступит с речью. Курсистка, блокнот отогнув, задумчиво вслушивалась в то, что вокруг говорилось, и набрасывала конспект своей речи. И Куся проникнет на сходку. То-то радости для нее! Кумачом разгорелись под светлой косицею ушки.
Долго, за ночь, когда уж беседа умолкла, сидело собранье. Разбирали заветные книжки, привезенные из Советской России. И взволнованным голосом, останавливаясь, чтоб взглянуть на Степана Григорьича, читал Яков Львович «Россию и интеллигенцию» Блока. Когда же впервые, контрабандой пробравшись через кордоны, зазвучали в маленькой комнате слова «Двенадцати» Блока, встало собранье, потрясенное острым волненьем. Лучший поэт, чистейший, любимейший, дитя незакатных зорь романтической русской стихии, он, как верная стрелка барометра, падает, падает к «буре», орлиным певцом ее! Он, тончайший, все понимающий, — с нами! И любовь, как горячая искра, закипала слезами в глазах, ширила сердце.
— Блок-то! Блок-то!
— И они там на севере, учителя, доктора, адвокаты, писатели, не научились от этого, не доверились совести лучшего!
Поздней парниковые юноши, вскормленные Пролеткультом, отвергали «Двенадцать». Но те, кто пронес одиноко на юге России, средь опустошительной клеветы и полного мрака, свое упрямое сердце, знают, как помогли им «Двенадцать». Искрой, зажегшейся от одного до другого, радугой, поясом вставшей от неба до неба, были «Двенадцать», сказавшие сердцу:
«Не бойся, ты право! Любовь перешла к тем, кого именуют насильниками. В этом порукой тебе неподкупный русский поэт…»
Шли в темноте, близко друг к другу прижавшись, взволнованные Ревекка и Куся.
— Ах, как прекрасно, как радостно! — Куся шепнула соседке: — Знаешь, я чувствую, что скоро весь мир станет советским. Вот попомни меня, поймут и один за другим, наперегонки, заторопятся люди устраивать революцию. И музыка, музыка, музыка пройдет по всем улицам мира, а я стану тогда барабанщиком и пойду отбивать перемену: трам-тарарам, просыпайтесь! Играю тебе зорю утреннюю, Человечество!
— Молчи, не то попадемся, — шепнула Ревекка. — Ох, вот за такие минуты не жалко и жизни! Даже думаешь иной раз, если долго чувствовать, сердце не выдержит, разорвется!
— Ривочка, я маме сказала, что буду у вас ночевать. А ты не забудь, что обещала провести меня завтра на сходку.
— Успокойся, не позабуду!
Родители курсистки Ревекки были ремесленниками. Ютились они, где еврейская беднота, на невзрачной Колодезной улице. Вход к ним был со двора и в первый этаж с подворотни. Жили они чуть побогаче соседей. Сын-часовщик помогал, дочь старшая шила наряды в магазин Удалова-Ипатова, а Ревекка давала уроки.
В комнате, за столом, под электрической лампочкой, ужинала семья, не дождавшись Ревекки.
— А, пришла наконец, садись, садись, и Кусе будет местечко.
Ласковый, важный, седой как лунь патриарх потеснился с благосклонной улыбкой, посадив к себе Кусю. И мать, еврейка с острым, нуждой изнуренным лицом, худая, как жердь, наложила ей рыбы с салатом. Кусю любили в семье за бесхитростность.
— Редкий христианин, сколь он ни ласков с тобой, станет есть у еврея, как у своих, с аппетитом. Это ты знай, мать, и, Ривка, запомни, чтоб не запутаться с гоем. А девочка Куся, благослови ее Ягве, ест наш кусок небрезгливо, — так не раз говорил патриарх, садясь, помолившись, за ужин.
Кончили, руки умыли и разошлись на ночлег. Куся с Ревеккой вместе легли и долго еще молодыми, заглушёнными голосами о всемирном советском перевороте шептались.
Ранним утром еще темно на улицах и в квартире. Медленно начинается день привычными звуками. Вот застучал по соседству колодкой сапожник. Полилась из крана вода, скрипнули резко ворота. Старьевщик, сиплым голосом выкликая товар, прошел по дворам, и хозяйки несли ему собранные пустые бутылки.
Невзрачное утро, а все-таки утро. И босоногая детвора, гортанно горланя, съев кто луковку с солью, кто хлеб, а кто побогаче — лепешку, бежит, как на лужайку, в грязные недра двора, заводить беспечные игры.
Куся с Ревеккой вышли из дому без четверти девять, чтоб Ревекка успела сходку наладить и подготовить свое выступленье. Белая девушка, веснушчатая, с серым, ясным, неробеющим взглядом, шла, как стройная лебедь, подобрав кудрявую косу. Вышла Ревекка в отца, патриарха: лишнего не болтала, сказанного держалась. Нежно поглядывали на Ревекку приказчики торговых рядов, где подержанным платьем торгуют. Не одна беспокойная мать засылала к родителям сватов. Но Ревеккина мать отвечала: учится девушка, ученая будет, нам не до сватов.
Все утро по коридорам университета осторожно шмыгала Куся. Как бы хотелось ей тоже учиться тут, вместе с другими! Лаборатория, библиотека, курилка! А на стенах бесконечные схемы, таблицы, под стеклянными крышками гербарии, бабочки, чучела. Физический кабинет, а за ним светлый круг аудитории, а в полураскрытую дверь видны головы, одна над другой рядами, русые, черные, девичьи, стриженые… Ох, учиться бы с ними! Посмотреть, что там дальше!
Но дальше Куся заглянуть не успела. Кто-то, пройдя, потянул ее за руку. Зазвенел звонок. Звонко сказали:
— Товарищи, собирайся в аудиторию номер восемь!
И пошло и пошло. Благоговейно втиснулась Куся в шумящую клетку. На кафедре Виктор Иваныч, за ним кто-то еще и Ревекка. Будет митинг. Волнуются головы полукругом над нею, черные, русые, белые, мужские и девичьи.
Виктор Иваныч что-то сказал тихим голосом, кашлянул и стушевался. Ясная, плавно, как лебедь, выступила Ревекка.
Речь она повела о доброй славе студентов, о том, что в самые черные годы гражданское мужество было у них и не было страха; о том, что не боялись попасть из заветного храма науки в архангельскую и вологодскую ссылку. «Мы были совестью общества», — говорила она. Общество, мнительное и запуганное, пробуждалось от спячки студентами, их бунтами и сходками. Там-то и там было сделано неправое дело. Узнало студенчество — и тотчас на неправое дело протест, организованный отклик. «А ныне, — так кончила речь свою девушка, — творятся открыто бесчинства. Реакция правит безумную оргию, засекает рабочих. И дошло до того, что в Киеве шомполами избили студента. Можно ли перенести это молча? В Харькове и Киеве студенты собирались на сходку, выносили протест. Не следует разве и нам отметить позорное дело трехдневною забастовкой?»
Разно ответили в зале на страстную речь: одних она потрясла, других испугала.
— Помилуйте, — шептались в углу возле Куси, — какого-нибудь инородца избили, а нам бастовать? И так мы с трудом отвоевываем возможность учиться; чуть что, нас погонят на фронт, времена неспокойные. Да, может быть, это и слух один, пущенный большевистским шпионом.
— Бастовать! — кричали другие. — Позорно! Сегодня в Киеве, завтра в Ростове! Покажем, что мы корпорация, что мы существуем.
Чем дальше волнуется зал, тем Кусе яснее: сходка проваливается. Уже многие под шумок, забрав свои шапки и книжки, шмыг в боковые проходы; за ними другие. Тщетно силится кто-то с эстрады остановить их: уходящих вниз невидно.
Забастовщиков меньше и меньше. Глядя, как тают ряды их, остальные встревожены.
— Товарищи, как это так? — кричат они на эстраду. — Не подводите нас, это уж выйдет предательство, нам не создать забастовки наличными силами. Или отложим, пока большинства не добьемся, или признаем, что забастовке не время.
— Позорный Донской университет, не забудут тебе этой сходки товарищи! — крикнула Куся тоненьким голосом, вскочив на скамью. — Ты сборище юнкеров, не студентов!
— Держите ее, кто такая, как смеет!