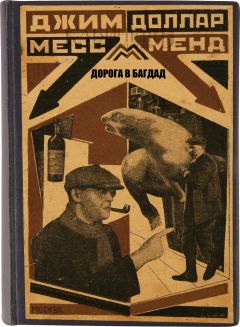Крики усилились. Кусю притиснули. Пробравшись к подруге, Ревекка ее увела, уговаривая успокоиться.
— Тут ничего не поделаешь, — шепнула она, — толпа — особенный зверь. Есть минуты, когда ты чувствуешь, что он собрался в комок и у него единое сердце. А в другие минуты ясно тебе, что он расползается, как солитер, кольцо от колечка. Тут уж надо признать поражение.
— Я бы их, я бы их! — Куся сжимала ручонки. — Мерзкие трусы!
В дверях они обе столкнулись с поспешно идущим, воротник от пальто приподняв, Виктор Иванычем.
— А, мадмазель, — улыбнулся он беззастенчиво, — ну что, кто из нас был вчера прав, вы или я? Успокойтесь, плюньте на них, я знаю студенчество лучше, чем вы, я эта предвидел. Не надо было лезть на рожон в этой среде, во и все.
Ни Ревекка, ни Куся не захотели ответить.
А на улице серое утро ослепительным днем заменилось.
Осенние рыжие листья пачками пальмовыми засиял под солнцем. Небо было резко прозрачное, густой синевы, как акварель Каналетто. И смытые дождиком, чистый гранит обнажая, мелко смеялись под солнцем круглокаменные мостовые.
— Подожди, — промолвила Куся, захлебнувшись от солнца, — подожди, эти жалкие люди еще поймут. Тогда они от стыда сгорят, вспомнив сегодняшний день. И вот увидишь, скоро весь мир станет советским. Все страны наперегонки заторопятся заводить у себя революцию! И музыка, музыка, музыка пройдет по всем улицам мира, а я стану тогда барабанщиком и пойду отбивать перемену: трам-тарарам, просыпайтесь! Зорю утреннюю я играю тебе, Человечество!
Глава двадцать шестая
НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ
В градоначальстве хмурили брови, говоря о броженье студентов. Сорвалась забастовка, а вдруг состоялась бы? И где же? В центре Добровольческой армии, где населенье благословляет спасителей. Недостаточно, значит, отеческое попеченье, незорки глаза у того, у кого следует.
Тот, кому следует, привычной дорогой пошел выполнять порученье. Выходя из ворот градоначальства, с виду он был независим и литературен. Мягкая шляпа не по-казенному ползла на затылок. Волосы, вьющиеся не по-казенному, спускались на плечи. Глаза смотрели открыто. Во многих домах принимали его за писателя и проповедника из народа.
— Дома, дома, пожалуйте, — сказали ему приветливым голосом за парадною дверью, куда он звонил. Загремела цепочка, дверь открыта, и независимый, с рассеянным взглядом российского идеалиста, поднялся по лестнице. В движеньях его была задушевная мягкость.
Гость, подобный ему, не в тягость хозяину, хотя б и пришел в неурочное время. Гость, подобный ему, хоть и не носит подарков, не приглашает ответно к обеду и ужину, да зато и не скажет вредного слова, не испортит вам настроения. Он знает, где у вас самое слабое место. К слабому месту подходит он осторожно, на цыпочках. Вам в разговоре неоднократно обмолвится, что не след такой тонкой и благородной душе зарывать себя в мертвой провинции. Ваше печение превознесет над печеньем Варвары Петровны. У Коли найдет изумительный профиль, а у Манечки, барабанящей на фортепьяно, блестящую технику… Гость такой не скупится на время и не щадит ни себя, ни ушей своих.
— Манечка, перестань, ты надоела Константин Константиновичу!
— Что вы! Оставьте ее, она играет, как ангел. Уверяю вас, я эту девочку мог бы слушать весь день.
И ладонь на глаза положив, а другою рукой меланхолически такт отбивая, странный гость отдает перепонки свои растерзанью.
Но лучше всего он бывает в те дни, когда ссорятся перед ним хозяева дома. Обласканный ими, он в доме свой человек. И частенько темные тучи, дождавшись его, вдруг обрушиваются на весь дом облегчающим ливнем. Ссоры бывают двоякие: мужа с женой и родителей с детками. В первом случае видеть отрадно, как приветливый гость, защищая того и другого, убеждает обоих в правоте обоюдной. Во втором же — мягкою речью он детям внушает уважение к старшим, этих миленьких ангелов против себя ничуть не настроя.
— Сил больше нет, Константин Константинович, вы свой человек, вы ведь знаете, это изверг упрямый, как вот эта стена, самодур. Он бы рад уморить меня!
— Ай-яй-яй, как вы сами перед собой притворяетесь злою! Вы же внутренно духом скорбите сейчас за него, и, как будто я вас не знаю, чудесная вы душа, готовы первая протянуть ему руку.
— Черта с два! Так я и взял протянутую в виде милости руку! Набросилась чуть свет ни с того ни с сего, позорит при детях, — пусть просит прощенья!
— Ай-яй-яй, кричите, а у самих под усами улыбка. Юморист вы, ей-богу. Записывать ваши словечки, так не хуже Аверченки. Ну, признайтесь открыто, вы пошутили… Друзья мои милые, люди вы наилучшие в мире, будет вам. Улыбнитесь! Вот так-то.
И, супругов сведя, долго еще Константин Константинович покуривает табак и смеется от чистого сердца. Да, это вам гость, от которого дому лишь прибыль.
Вот и нынче, с сердечной веселостью он целует ручку хозяйке:
— Поправились! Цвет лица как у Юноны… А детки здоровы? Что Виктор Иваныч, бедняжка, уж начал бегать по лекциям?
— Садитесь, садитесь, Константин Константинович, будем пить кофе. Дети в гимназии. Манечка насморк схватила… А вот Виктор, — Виктор опять бесконечно меня беспокоит.
— В чем дело, хорошая моя? Что затеял наш годеамус?
— Витя, иди сюда! Пусть он сам все расскажет.
В столовую вошел хмурый, еще не побрившийся Виктор Иваныч, застегивая на ходу студенческий китель.
— Здравствуйте. Мамаша опять распустила язык. Ничего такого особенного, возня со всякими делами. Я, мамаша, кофе без молока буду.
— Опять черное кофе с утра! И без того нервы у тебя так и ходят. Виктор наш, Константин Константинович, на беду свою, пользуется слишком большой популярностью. Студенты ему доверяют…
— Не без основанья, конечно.
— Так-то так, да самому Виктору от этого мало хорошего. Вместо учения изволь там суетиться по всякому поводу, рисковать своей шкурой, бегать на сходки.
— Сходки? Кстати, Аглая Карповна, был я вчера у знакомых, и мне говорили, что ходит слушок о возможности ареста каких-то студентов. Я надеюсь, Виктор Иваныч, вы не замешаны в этом. Вчера будто было какое-то антиправительственное выступленье…
— Кто вам сказал? Какой арест? — всполошился Виктор Иваныч.
— Не волнуйтесь, голубчик, вас это, разумеется, не коснется. Вы же всегда были благоразумны! Арест главарей вчерашнего выступленья. Говорят, их никак не могут дознаться.
— А что с ними будет?
— Очевидно, их мобилизуют для немедленной отправки на фронт. Так, по крайней мере, я слышал.
— И поделом! — вскрикнула Аглая Карповна резко. — Что за низость мутить молодежь, когда наш фронт героически борется для спасенья России. Как будто нельзя потерпеть как-нибудь год, пока не очистят Великороссию. Уж эти мне голоштанные бунтари, учиться им лень — вот и бунтуют!..
— Мамаша, да помолчи ты! Я сам был… То есть я сам сидел на эстраде в числе участников… Константин Константинович, умоляю вас, это серьезно?
— Серьезно, родной мой. Вы испугали меня. Неужели вы были вчера на эстраде?
— В том-то и дело… Ах, черт! Ни за что ни про что… Вот история. И ведь так я и думал, что это нам даром не обойдется…
— Так зачем же?
— Что зачем? Разве я идиот? Разве я им целый день не долбил, что это колоссальная глупость? Я начисто отказался… О, черт бы побрал ее, эта дура тут сунулась…
— И, наверно, жидовка какая-нибудь!
— Мамаша, вы меня раздражаете, я стакан разобью, — крикнул диким голосом Виктор Иваныч, — и без вас можно с ума сойти!
— Да что вы волнуетесь, Виктор Иваныч? Вы говорите «она»… Значит, курсистка. Ну и слава богу, жертвой меньше. Валите-ка все на нее, ведь курсистку на фронт не пошлют.
— Да на что мне валить? Вот придумали! Вам каждый студент подтвердит, что она вылезла против моих же советов. Я бесился, моя репутация может заверить вас в этом. Чем же я виноват, если навязывают мне дурацкие авантюры!
— А кто она такая?
— Ревекка Борисовна, математичка. Упряма, как столб, сколько ни спорь с ней, ни на ноготь от своего не отступится.
— Ревекка Борисовна, а как дальше? — И приветливый гость занес фамилию в книжку. — Я, кажется, где-то встречался с ней.
— Рыжая, веснушчатая, на колонну похожа. Руку пожмет вам, так съежишься, сильная, как мужичка.
— Да, вот ведь история… Волнуется молодежь. Ах, годеамус, годеамус мой милый, неисправимый!
И, против обыкновения, хозяев не слишком утешив, встал Константин Константинович, рассеянно улыбнулся, попрощался и вышел. Спускаясь по лестнице, подмигнул своему отражению в зеркале: да, брат такой-сякой, если б знали они, с кем…
Наверху же, из-за стола не вставая, сидели по-прежнему Виктор Иваныч с мамашей.
— Этот ваш Константин Константинович — хитрый пес, уж очень он все выспрашивает, да вынюхивает, да записывает, — переборщил!