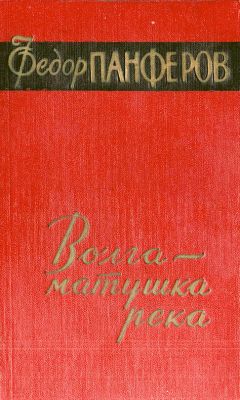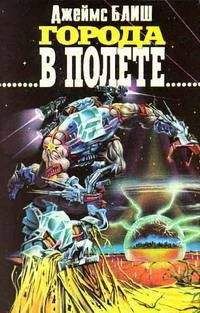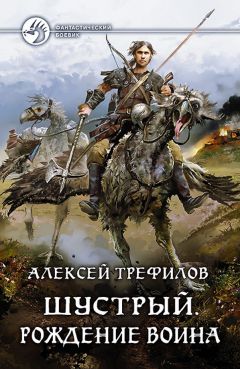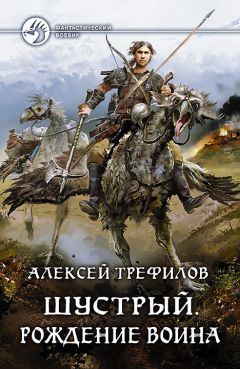— Такого давно не было. Вот это подвалило, — говорили люди, готовясь к сбору.
К этому уже готовились обком партии, облисполком, райкомы, райисполкомы: всюду шла мобилизация автотранспорта, выделили людей в помощь колхозам, предварительно подсчитывали, что следует сдать государству, что в неделимый фонд, сколько килограммов колхознику на трудодни… И вдруг из среднеазиатской пустыни дохнула жара. Небо заволоклось серо-пепельной массой, воздух сгустился и…
— И вот во что в течение пяти-шести дней превратились наши хлеба, — проговорил Любченко, показывая на поле пшеницы.
О поле, поле!
Сколько труда вложено в тебя!
Это ведь он — твой сын — сын земли с самого младенчества, чуть ли не с молоком матери впитал в себя любовь к тебе, земля, и ты тогда еще в детских снах грезилась ему обильным урожаем. И когда он подрос, то в самые ранние часы утра, недосыпая, спешил на твои равнины, перевертывал твои пласты, разделывал их, забрасывая зерном, шепча запекшимися губами:
— Ноне уродит.
Это ведь она — дочь твоя — дочь земли, рожая человека, часто обращается к тебе, земля, говоря:
— Роди и ты, как рожаю я.
И как часто, бесчисленное множество раз, ты, земля, била их — твоего сына, твою дочь, била беспощадно, угоняя с насиженного места куда-то на чужбину к чужому куску хлеба.
Но ведь ныне ты была добра и ласкова: на твоих равнинах колыхались небывалые хлеба, и колос уже клонился к земле, словно собираясь отблагодарить тебя за великие твои щедроты.
И вот дунуло злое дыхание пустыни и в течение пяти-шести дней высосало зерно, а колосья, длинные, граненые, побелели, будто отмороженные пальцы на руке. Они — миллиарды колосьев, в гневе на тебя, земля, вскинулись кверху, и их треплет ветер, как треплет он всякую былинку…
Иван Евдокимович из машины выбрался последним. Он шел к белесой пшенице, и казалось, идет в хату, где действительно лежит мертвый любимый человек, но он, Иван Евдокимович, не верит, что тот умер, не верит, а ему говорят: «Иди посмотри, убедись».
Подойдя к пшенице, он провел рукой по пустым колоскам и глухо проговорил:
— Саван. Суховей надел на хлеба саван… — И повернувшись к Акиму Мореву, добавил: — Помните, в Горьком на берегу Волги мы стояли… я вам показывал на сизую дымку? То были остатки вот этого злого дыхания… языка пустыни…
А сейчас Иван Евдокимович, Аким Морев, Любченко, по настоянию Мити Дунаева, задержались на боковине тракта, у костра.
Ночью степь звенит так, что кажется, где-то в одном месте сгрудились миллиарды кузнечиков. Неугомонный звон катится волнами, то приглушенно, то вдруг такой, словно кузнечики всей громадой двигаются на человека.
Пересушенная трава перекати-поле горит буйно, с вспышками, словно порох. Отблески играют далеко на седом ковыле, на жирной придорожной увядающей лебеде и красным пламенем заливают лица людей, сидящих полукругом.
— Хочу послушать природу в ночном, — говорил Митя. — Я ведь намереваюсь создать музыкальную поэму о канале, а канал будет орошать степи, значит я должен познать и душу степей. Лирику! Например, — он прислушался к звону и, барабаня пальцами, словно по клавишам, пропел какую-то мелодию, затем обратился к академику: — Каково, Иван Евдокимович?
Тот подумал и ответил:
— Я тугой на музыку.
После реплики академика, чувствуя себя как-то неудобно, все сидели некоторое время молча. Митя болезненно-тоскливыми восклицаниями нарушил молчание:
— Но как? Как всю эту красоту передать в музыке?.. Вы только послушайте. Слышите? Звенит… звенит-звенит. Ведь это гениальная симфония.
— Да вы знаете, что звенит? — перебил его Любченко.
— Понятия не имею, — ответил Митя. — Но красиво. Понимаете, красиво. Мне даже кажется, это поют песню Волга и Дон: они ныне устремились друг к другу, как новобрачные, и поют песню жизни.
— Новобрачные? Черт-те что придумать можно, — и Любченко, переглянувшись с академиком, сказал: — Мы сегодня останавливались на поле скошенной люцерны. Слышали, как она хрустела под ногами, будто рассыпанные сухари. Так вот, — безжалостно продолжал он, — днем все накалилось под солнцем, а ночью отходит и пищит. Слышите, это травы пищат. Нам дождь нужен. Проливной. Пшеницу озимую посеяли, а зерно лежит в земле, даже не проклюнулось: жара, сушь. А он — симфония, да еще гениальная. Вот где она у нас, ваша симфония! — И Любченко с силой огрел себя ладонью по затылку.
— Убили вы мою фантазию. Убили, — вымолвил Митя.
— Безжалостно колотите, но справедливо, — заметил Аким Морев.
— Фантазию я вашу не убил, а глупость — да. Ее надо всегда и всюду убивать.
Академику стало жаль Митю, и он задушевно проговорил:
— Ничего, дорогой юноша музыкант. Положим, раненько вы величаете себя композитором. Алексей Максимович Горький до конца своей жизни не называл себя писателем. Говорил: «Очень высокое это звание». Ну, ничего, не робейте, не падайте духом: у вас еще слишком яркий румянец на щеках. Вот когда он сойдет, вы познаете мудрость жизни. Хорошо то, что вы не сидите дома и не высасываете музыкальные звуки из пальца. Молодость не знает бессонницы, усталости. Молодость имеет восприимчивый ум, яркую впечатлительность. Эти драгоценные качества у вас есть — не транжирьте их на пустую… заоблачную фантазию.
— Да. Давайте трогаться. Хватит симфонию слушать, — предложил Любченко, обозленный, видимо, еще и тем, что его терзала ревность. Он первый, поднявшись, начал тушить костер.
Машина снова тронулась по гудронированному шоссе вдоль трассы канала.
— Неподалеку от шоссе тянется цепочка электрических фонарей — десять, двадцать, тридцать… пятьдесят километров. В иных местах она путается, будто нить жемчуга, брошенная на землю, — значит, здесь поселок, затем снова выпрямляется и тянется вплоть до Дона…
На небе побледнели звезды. С востока еще невидимое солнце вонзило яркие стрелы в боковины облаков… и разом погасла цепочка электрических фонарей. Из предутренней рани вылупились огромнейшие валы земли, экскаваторы, деррики, бегущие туда и сюда грузовые машины-самосвалы.
— Ну, что же, юноша музыкант, хотите, я вам кое-что расскажу? Нет ли у вас карты? — обратился академик к Любченко.
— Есть. Всегда в машине.
Тогда остановимся. Или вам неинтересно, Аким Петрович?
— Очень интересно.
Вскоре все склонились над картой.
Иван Евдокимович, водя карандашом, чуть подумав, начал так:
— Вот отсюда, от Дона, пересекая степи длиною больше ста километров, канал войдет в затон на Волге у Сталинграда. На пути попадается водораздел в семьдесят два метра. Он будет преодолен путем устройства шлюзов. Здесь вот, около Цимлянска, заканчивается строительство плотины. Она подопрет Дон и образует огромное море. Скоро поплывут по каналу суда с Волги, побегут пароходы по Цимлянскому морю. Таким образом, Волга, в настоящее время водная магистраль внутреннего значения, превратится в магистраль международного значения: она будет соединена с океанами. Конечно, работа колоссальная. Одной только земли потребуется вынуть на плотине и канале сто пятьдесят миллионов кубометров.
— Это как же представить — сто пятьдесят миллионов? — спросил Митя, перебирая в воздухе пальцами.
— Да-а. Мне трудно ответить. Обратимся к инженеру. Аким Петрович, поясните нам, что значит сто пятьдесят миллионов кубометров, — попросил академик.
Аким Морев задумался, затем достал записную книжечку, карандаш, что-то некоторое время писал, перечеркивал, подчеркивал и сказал:
— Если сто пятьдесят миллионов кубометров земли поместить на платформы, то понадобится шестнадцать миллионов платформ.
Все ахнули, но еще не представляли себе, что такое шестнадцать миллионов платформ. Подметив это, Аким Морев снова что-то стал подсчитывать и добавил:
— Шестнадцать миллионов платформ, если их поставить в одну линию, займут сто двадцать тысяч километров, — он чуть подумал. — Земной шар около сорока тысяч километров, значит данные платформы с землей три раза опояшут земной шар.
Все настолько были поражены грандиозностью земляных работ, что некоторое время молчали. Молчание нарушил Любченко:
— Это — да!.. Землищи столько! Но воды? Водички? Горим ведь!
— Воды? Канал Волга-Дон и Цимлянское море первые выдадут Большую воду на поля! — воскликнул академик.
— Эй, слушайте-ка, — раздался со стороны голос. — Вы ехать хотите на ту сторону или просто — глядеть?
Все оторвались от карты и тут же увидели человека в синем комбинезоне.
— Что такое? — тревожно спросил академик.
— Если хотите ехать — езжайте, не то этот перешеек сгрызут экскаваторы. Вон, видите, два молодца.
К перешейку действительно приближались, вгрызаясь в землю, два мощных экскаватора. Они шли навстречу друг другу, хватая землю, выбрасывая ее на обочину, образуя горы. Расстояние между ними было метров пятьдесят. Акиму Мореву, Мите, Любченко очень хотелось посмотреть на работу экскаваторов, но академик предложил сначала отправиться к Дону, чтобы иметь общее представление о трассе канала, затем вернуться и задержаться около экскаваторов.