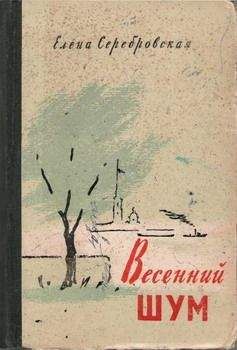Машу стало знобить — плохо топят на факультете, не понимают, что за несколько часов промерзнуть можно. Другие, правда, не мерзли, напротив, многие сидели, раскрасневшись от волнения, поглядывая в свои конспекты. А Машу знобило. К тому же экзамен тянется бог знает сколько.
Когда она вошла и взглянула на доставшийся ей билет, — ей показалось, что достались самые простые вопросы. Но сосредоточить на них мысли оказалось невозможно. Она взглянула на часы — восемь двадцать пять… Никуда, никуда она не успеет!
— Вы можете отвечать? — спросил доцент.
— Да, конечно! — ответила Маша, посмотрела на билет и расплакалась. — Я не знаю, что со мной, — жалобно бормотала она, — я все это хорошо знала, а сейчас…
— Устали, но тут ничего нет страшного. Вы не волнуйтесь и не расстраивайтесь. Я помню ваши выступления на семинаре. Идите отдохните, а денька через три придете сдавать. Все будет благополучно.
После экзамена доцент зашел в деканат и долго беседовал с деканом по поводу того, что на время сессии создается очень нервозная обстановка, что студенты доходят подчас до настоящего нервного потрясения. Притом студенты серьезные, знающие предмет и хорошо работавшие в течение всего семестра.
Маша поехала к Маркизову.
Если бы кто-нибудь стал ее сейчас спрашивать, зачем она едет и надо ли ей вообще ехать туда, она, вероятно, согласилась бы, что незачем, не надо, нельзя. Но, согласившись, поехала бы все равно. Она же на полчаса, она только послушает, что он там сказать хочет, она очень скоро вернется. Она же не видела его полтора месяца, наконец!
Подойдя к двери его квартиры, она услышала его приглушенный голос, наверное, разговаривает по телефону. Она обождала минуту и позвонила.
— Пришла! — сказал Маркизов, приветственно встряхивая обе ее руки. — Раздевайтесь, я познакомлю вас с одним очень интересным человеком. Этот старик провел в Заполярье три года, он специалист по разведению пушного зверя, очень интересный старик. Завтра снова уезжает, заехал проститься.
Старик был, действительно, интересным человеком. Он рассказывал о песцах, об их повадках и привычках, о лисах, чернобурых и платиновых. Поглядывая иногда на Машу, гость несколько раз порывался уйти, но Маркизов просил его посидеть еще.
Исчезнув на миг в соседнюю комнату, Семен Григорьич пригласил гостя и Машу выпить рюмку вина. Холостяцкий небогатый стол, черствый хлеб в плетеной хлебнице говорили об отсутствии женской руки. Но старик ни о чем не спрашивал. Он выпил бокал вина и направился к выходу.
— Мне тоже пора, — сказала Маша, когда Маркизов вернулся в комнату.
— Никуда вы не пойдете. Я же ничего не знаю, — как прошли ваши экзамены, как вы живете?
Маша рассказала. О сегодняшнем конфузе она не хотела рассказывать, просто сообщила, что преподаватель не всех успел спросить, а оставшиеся сдают через три дня.
Она снова хотела встать, чтобы уйти, но он не отпустил ее снова.
— Никуда вы не пойдете. Позвоните сейчас же отцу и предупредите его. — И, видя ее замешательство, добавил: — Вы будете в отдельной комнате, в двери ключ. Если захотите, можно запереть…
— Я не боюсь, — сказала Маша, принимая вызов. И тотчас позвонила домой. Сегодня она останется у Маркизовых…
— Зачем вы оставили меня! — сказала она, повесив трубку. — Стоит мне выйти в коридор, как ваш сосед вообразит невесть что.
— Какой сосед? Ах, Вагнер! Он здесь бывает только днем, когда принимает.
…Без тревоги, без сожаления, спокойно проснулась она поутру. Еще не открыв глаза, она ощутила рядом своего избранника, его теплое спящее тело, закрытые голубиные глаза. Взглянула на них, и они медленно расцепили черные ресницы, медленно раскрылись, еще сонные, еще не сознающие ничего.
…Накормив ее завтраком, Маркизов помог ей собраться в библиотеку и тотчас спросил, когда же она придет. Сегодня? Надо сегодня, никакие экзамены не должны помешать! Непременно сегодня. К тому же, у него вечер снова свободен, а завтра спектакль и он вернется домой после двенадцати.
За завтраком он снова обратился к ней на «вы». Должно быть, у него такой обычай, он и Лизу так называл. Значит, «ты» у него — только для ночи, как у англичан — в обращении к богу…
Конечно, к вечеру она примчалась. Днем просидела часов восемь в библиотеке, убеждаясь, что по курсу русской истории знает все отлично, — непонятно, как это она сбилась, разволновалась на экзамене. Ничего, послезавтра сдаст!
Он снова читал ей стихи, читал Пушкина, и Маша слушала так, словно впервые, словно открытие делала. Потом говорили об университете, о жизни, о том, какие бывают люди.
— Вы карась-идеалист, Машенька, — остановил он ее, когда она расписывала достоинства своих товарищей по учебе. — Люди часто представляются вам в розовом свете. На самом деле они хуже.
— Это по Пушкину: «узнал бы жизнь на самом деле, подагру в сорок лет имел…» Пушкин так написал не про кого-нибудь, а про Ленского, которого любил. Но в наше время люди другие, они изменились все-таки со времен Евгения Онегина…
— Мало изменились. Учитесь разгадывать правду за красивыми словами… Карась-идеалист. Помните, как его щука съела?
— Важно уметь заметить новое, старое-то каждый видит, — возразила Маша. — Мой комсомол и научил меня замечать новое. И стараться самой поступать так, чтобы не стыдно было за наше время…
— Бойтесь громких слов.
— Это не громкие слова. Комсомол сделал меня много сильнее, я никогда не чувствую себя одинокой, я поступаю сознательно…
Тут она зарделась. Всегда ли сознательно? Вполне ли сознательно поступила она, оставшись у Маркизова? А если нет, то не надо хвастаться.
Маркизов подумал то же самое, это было видно по его взгляду. Но он промолчал. А когда застелил постель и очутился рядом, он обнял ее крепко, взглянул нежно в самые глаза и спросил:
— Кого ты любишь сильнее, меня или комсомол?
Лицо ее исказилось, как от боли, и она непроизвольно отодвинула его руки. Как мог он задать такой вопрос? Какая глупая шутка!
— Комсомол, конечно… Зачем, зачем ты задаешь такие вопросы?
— Я не хотел обидеть тебя, я пошутил, — и он принялся целовать ее, чтобы забыла об этом вопросе, чтобы снова увидела только его, его одного и их любовь.
Но как только к Маше возвращалась способность размышлять, она снова начинала мучиться. Это падение, постыдное падение. Курт никогда, никогда не спросил бы, что ей дороже, он или комсомол. Что же случилось?
Мгновениями ей становилось страшно от этого открытия. Как же так, почему она не предвидела?
Когда они сидели за утренним чаем, пришел его приятель, тот самый, которого Маша встретила на спектакле. Он приветливо поздоровался с ней и, когда Семен Григорьич вышел зачем-то из комнаты, сказал Маше с торжествующим видом:
— Вы совсем заменили Лизу… Он так расцвел!
Маша ничего не ответила. Лизы здесь не было, не было ее одежды, ее флакончиков на этажерке. Что ж, она уехала по собственному разумению. Не Маша толкнула ее на это решение.
Спрашивать Семена о Лизе Маша стеснялась, — нет, она не позволит себе оскорбить его подозрением! Однажды она назвала имя Лизы, но он решительно оборвал:
— Она далеко, у своих родных, и не будем об этом! Лучше скажите-ка, согласны ли вы съездить со мной в мебельный магазин? В этой комнате не хватает хорошей книжной полки, да и абажура нет на лампе. Съездим завтра утром?
— У меня как раз экзамен, который перенесли. Дней через пять я буду совсем свободна.
— Хочу поскорее, а то неуютно здесь. — Тогда поезжайте сами.
«Еще недостает, чтобы я под его влиянием стала забывать о своем долге, о своих комсомольских обязанностях», — подумала она.
Через несколько дней, вечером, сидя на его широкой тахте, Маша беседовала с его друзьями. В гости заявились поэт с женой. Они оба были неприятны Маше: она была жалкой, он — глупым и самодовольным. Маша разговаривала с ними безо всякой охоты, но не хотела обидеть их. Она предпочитала молчать.