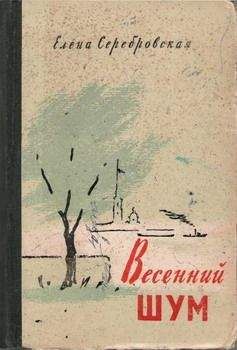— Позвольте, — сказал он ей и поднял листок, чтобы его видели все. — Этот набросок портрета вашего товарища-армянина говорит о большом сходстве в наружности ассирийцев и современных армян. Это — родственники, наследники, вспомните портреты ассирийских царей. А рисовать во время занятий не следует, — закончил он, возвращая рисунок покрасневшей студентке Лозе.
Вспомнит ли профессор нарушение дисциплины? Во всяком случае, Маша учила историю древнего Востока очень добросовестно, чтобы не опростоволоситься.
Маркизов звонил ей в конце декабря, потом в первой неделе января, но она неизменно ссылалась на сессию. «У меня большие новости для вас», — говорил он по телефону, стараясь возбудить ее любопытство, но она повторяла одно и то же: сессия, такие страшные экзамены, такие строгие профессора, что просто ужас. Ближайший месяц звонить ей не стоит.
И он перестал звонить. Через неделю, сидя дома за учебником, она вспомнила, что телефон давно уже молчит. Сама запретила… но если бы он очень хотел, позвонил бы и без разрешения. А впрочем, это все к лучшему, по крайней мере, Лиза станет спокойной и не будет плакать. Там — семья, какая ни на есть, а Маша что? Все-таки она считает себя новым человеком. От нее людям теплее должно становиться, а не холодней. Нет, это все к лучшему.
Историю древнего Востока она сдала на «хорошо». Отоспалась, принялась за политэкономию. Этот предмет она любила. Еще в фабзавуче она начала читать Ленина, Сталина и Энгельса — Сергей приносил ей эти книги, они часто спорили, обсуждали. Чтобы не отстать от Сергея, Маша читала такую литературу независимо от учебы в фабзавуче. Она разыскала у букинистов, книгу Августа Бебеля «Женщина и социализм» и купила ее. Сделать это Машу заставил Маяковский, написав в одном стихотворении:
Для кого Бебель — «Женщина и социализм»,
Для кого — пиво и раки.
Во вторую категорию попасть не хотелось, и книга была прочитана. Ничего, она была наполнена такими фактами, что Маша сразу почувствовала себя сильней. Нет, женщины больше не улитки, которые прячутся в свою скорлупу, всего боятся. Они давно уже борются за свои права. Но ничто не дается даром, за все платят жизнью. Одна из героинь Французской революции Олимпия де Гуш сказала, когда ей прочитали смертный приговор: «Женщины могут гордиться — нам дали право на эшафот, но придет время, когда мы добьемся и права на трибуну…» Ее казнили. А право на трибуну уже завоевано — у нас. И не только это.
Политэкономию Лоза сдала на «отлично». Оставался экзамен по древней русской истории. Объем курса был, конечно, велик, но Маша этого экзамена боялась меньше, чем других. Все знакомое, обо всем этом читалось много раз. Вот только хронологию подзубрить, написать ее на длинных листочках, как у Козакова.
* * *
В вечерней газете Маша прочитала, что в город приехал на гастроли из Москвы Малый театр. Она заранее взяла билеты так, чтобы пойти на спектакль сразу после экзамена по политэкономии. Шла «Гроза».
В первом же антракте Маша увидела много знакомых по смотру самодеятельности и некоторых актеров, с которыми ее знакомил Маркизов. Один из них подошел к ней поспешно, — это был приятель Маркизова, часто бывавший в их доме. Он поздоровался, взял ее под руку и сказал:
— Куда вы пропали? Что вы делаете с ним? Вы знаете, что с ним творится последнее время?
— О нем есть кому заботиться, — отрезала Маша, чтобы прекратить разговор.
— Лизы нет в Ленинграде вот уже скоро месяц. Они расстались, и она уехала в Киев к отцу.
Что? Лиза уехала в Киев? Недостает только задать этот вопрос заботливому приятелю Семена Григорьича — почему Лиза уехала?
— А что же с ним? — спросила она уже в тревоге.
— А с ним черт знает что, мечется человек. Хорошего мало. Он придет сегодня к последнему действию, вы поговорите с ним. Не напускайте холоду, как вы это любите. От женщины очень многое зависит. Простите, что я вмешиваюсь не в свое дело, но Семен — мой друг.
Спектакль захватил Машу. И как же глубоко проник Островский в душу женщины, как хорошо показал он все это! Смерть Катерины почти неизбежна: она знает, что случится беда, она просит мужа не оставлять ее одну, не уезжать, но когда остается — идет навстречу грозе. Пусть будет, что будет. А раз случилось это, раз она послушалась своего сердца и ушла ночью на свидание в темный сад на берегу Волги, — значит, с тем диким миром все кончено. Туда уж она больше не вернется. Нет любви, нет счастья — значит, конец. Нет у Катерины другого выхода.
Маша очень любила эту роль, хотя понимала, что игра ее на сцене заводского клуба — игра любительская, далеко ей до искусства настоящих мастеров. Но если играть на сцене — наслаждение, то почему же не сделать его доступным всем, кто тянется к такому наслаждению? Играть, осознать и перечувствовать всю сложную драму женской жизни тех времен… Снова пережить это самой за Катерину, снова продлить свою жизнь, воплотившись на время в облик женщины, какие были полвека назад… Маша не знала, что чувствуют во время игры другие ее товарищи или настоящие актеры, но сама она чувствовала, что становится богаче, щедрее, сильнее.
О Маркизове она вспомнила, когда подбежала к авансцене, аплодируя вышедшим актерам. Она почувствовала его рядом — и тотчас забыла актеров.
Он стоял перед ней такой счастливый, такой сияющий, и не знал, что сказать. Стоял и бормотал: «Здравствуйте, здравствуйте, Маша!»
Они не торопились выходить к вешалке.
— Когда же наконец, когда же придете вы ко мне? — спросил он, не выпуская ее руки. — Сегодня? Завтра? Когда, господи?
— Послезавтра днем у меня последний экзамен, — ответила Маша чуть слышно.
— Послезавтра вечером вы придете, — видите, какой я терпеливый? Я верю, что вы не обманете.
В зале было уже пусто, и капельдинер осуждающе взглянул на Машу и Маркизова.
Весь следующий день прошел в какой-то тревоге. Надо было повторять материал к экзамену, листочки с хронологией были написаны. Однако голова не работала, как полагалось, после каждой записи в памяти возникал Маркизов. Несчастный и печальный, счастливый и сияющий… Что она ему обещала? Приехать? Но из этого вовсе ничего не следует. Приедет на полчаса, поговорит немножко и скроется.
Иван Грозный начинал заботиться о развитии отечественной промышленности, о горнорудных заводах — Маркизов попадал туда же. Болотников поднял восстание — Маркизов почему-то возникал в памяти рядом с именем Ивана Болотникова. Может, она когда-нибудь учила историю, а в это время позвонил Маркизов, — и прочитанное связалось в подсознании с его звонком, голосом. Может, были какие-нибудь другие связи, — только Маркизов вставал перед глазами и тогда, когда Маша дошла до петровских времен, и дальше. «Ну, ничего, это все я знаю, только немного повторить, освежить в памяти», — утешала себя Маша. А непослушные мысли снова устремлялись к голубиным глазам и в ушах звучал его низковатый голос: «Послезавтра вечером…»
Ночь прошла беспокойно, тяжелые сны утомляли. То ей снилось, что она опаздывает на поезд, бежит, торопится, а он уже отошел и только красный огонек мелькнул на последнем вагоне. То снилось ей море и она — одна на высокой скале. Лодки нет, никого нет, а она вспомнила, что ее ждут, что надо прийти вовремя. Но лодки нет… Препятствия, препятствия, препятствия на пути — они загромоздили все сны, они держали ее в непрерывном напряжении. Проснувшись утром, она почувствовала, что голова кружится от усталости, а все века русской истории, все цари, полководцы и вожаки крестьянских восстаний смешались в один хоровод.
Экзамен проходил благополучно, молодой доцент спрашивал, строго придерживаясь программы, и ставил отметки справедливо. Только он очень затягивал экзамен, каждого держал подолгу. Он не знал, что Маша после экзамена непременно должна поехать к Маркизову. Доцент ничего этого не знал и заботился только об усвоении его предмета и о справедливости в оценках.
А часы шли. Студентов вызывали по списку — одного из начала списка по алфавиту, другого с конца. Лоза оказалась из последних. Уже шел восьмой час, а до Маши еще было три человека.