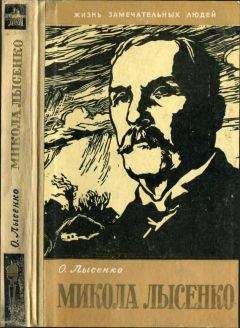«ТРАГЕДИЯ У ЛОНДОНСКОГО МОСТА!»
Сегодня, около часу дня, когда деловые люди спешат на ланч, над парапетом набережной низко пролетел лебедь. Обессиленная птица неожиданно опустилась на проезжую часть и была раздавлена автомобилем мистера Каутс из Кентиштаун (Воксхол – велокс, черного цвета № ОР-48-14). Не успели сбежаться любопытные, как от Темзы прилетел еще один лебедь. Это был супруг погибшей. Он пронзительно кричал, бил сильными крыльями и в течение двенадцати минут не подпускал к своей любимой никого.
Движение на набережной остановилось на расстоянии более чем полмили.
Красавица лежала в крови и нефтяных пятнах. Лебедь отчаянно защищал свою подругу, не зная, как добры люди и с какой бы радостью они предотвратили убийство. У многих свидетелей этой трагедии на глазах были слезы.
Когда прибыла карета амбулатории общества защиты птиц и животных, – было поздно.
Специалисты-зоологи с трудом успокоили возбужденного вдовца, вернули его на реку и убрали труп погибшей. Движение возобновилось в один час двадцать три минуты.
Как стало известно нашему корреспонденту, причиной гибели королевской птицы явилась нефть, в большом количестве вытекающая из потерпевшей аварии баржи.
Неосторожные лебеди и утки, попадая в густые пятна нефти, теряют способность летать. Перья их склеиваются, и, чтобы очиститься, они выходят на берег, медленно передвигаясь.
Мы разделяем возмущение жителей Лондона!
Почему муниципалитет города не принял меры, исключающие возможность подобных трагедий?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Фотография из газеты: Утки и лебеди на берегу Темзы очищают перья. Над ними, усеяв бетонный парапет, любопытные лондонцы.
Итак, казалось бы, мы знаем все о прошлом Яна Вальковича. Но ни долгий рассказ старика, ни вспышки воспоминаний, как бы ни были они ярки и выразительны, не дают нам ответа, – почему все-таки Ян убежал от Геннадия? Все ли рассказал Билл Хамильтон об одиноком белорусском хлопце на чужой земле?
Человек никогда не одинок. Связь мелких будней окружает нас даже тогда, когда общественная жизнь приостановилась и человек стремится уйти от людей.
Когда, поддавшись тяжести свершенного, он позволяет прошлым событиям захватить все его думы, превратив дни и ночи в череду бессмысленных и бессильных угрызений, тогда тяжко выбраться в сегодняшний день. Тяжко знать, что в твоем прошлом были несправедливости, которые нельзя уже исправить, и нельзя утешить когда-то тобою обиженных.
Но в прошлом таится не только плохое. В нем основа и начало будущего – богатство великого опыта. Только надо найти силы отобрать нужное людям и не пустить зло.
Ян боролся со своим маленьким прошлым, уступая воспоминаниям, и не всегда понимал, почему окружающие творят новое зло для него. Становясь взрослым, он почти добрался до этих причин, шаг за шагом продвигаясь в догадках. Еще мальчиком, оказавшись в лагере для перемещенных лиц, Ян на себе испытал силу страха. Силу, которую так умело перенесли люди из темных глубин мистических предсказаний в реальный мир.
Страх смерти – преждевременной, насильственной и тайно-мучительной, с давних времен подавлял волю слабых. Теперь он изменил только форму. Дряхлый скелет «курносой с косой», осмеянный многими авторами, уже никого не пугал, даже верящих сказкам детей. Смерть в честном бою рождала бессмертие. Здесь страху не за что удержаться.
Годилось другое – смерть по доносу.
Страх умереть с проклятием, с отрешением от памяти близких, с клеймом предателя, без возможности оправдаться, без слова защиты, медленная смерть при общем презрении остающихся жить, обманутых рассказом о твоем преступлении, вот что удержит несчастного, предоставив ему выбор между полным повиновением и все той же смертью. Страх стал оружием, удивительно ловко применяемым теми, кто сам не переставал бояться.
Немецкая газета с фотографией «русского мальчика Ивана, спасшего солдат фюрера», не только не исчезла вместе с фюрером и его солдатами, но приобрела новую силу.
В Германии больше никто ее не показывал Яну. Он сам вспоминал о ней, когда в лагере перемещенных увидел якобы пытавшихся вернуться на родину. Запомнился «дядя Миша». Сильный, молчаливый солдат из какой-то неизвестной воинской части, из которой не было среди пленных однополчан, даже соседей, первый ушел в советскую зону. Через неделю его привезли в лагерь избитого и обозленного. Дядя Миша стал вдруг разговорчивым. По просьбе и без просьбы рассказывал, что ему пришлось пережить у «своих».
– Думал, зачтутся нам наши муки в фашистском плену. На колени паду, землю русскую поцелую… А мне перво-наперво в зубы и кандалы на руки… Достоверно стало известно: есть секретный приказ – всех без исключения, кто хоть два дня у немцев пробыл, считать предателями Родины.
– А как же другие? С тобой ведь еще люди пошли… – спрашивали, жадно ловя каждое слово.
– Вечная память, – снимал пилотку дядя Миша и, достав из-под подкладки измятый листок, показывал: – Вот, смотрите, это мне один из «вернувшихся» дал. Вместе со мной обратно бежал. Теперь благодарит…
На листке, словно бы оторванном от русской газеты, фотографии казни через повешение. Под ней жирная подпись: «Смерть предателям Родины!»
В лагере организовали «комитет защиты», сразу получивший немалые привилегии от военной комендатуры. Дядю Мишу назначили председателем. Это было понятно. Он пострадал за других и потом довольно легко изъяснялся и по-немецки, и по-английски. Не понять только, когда этот молчаливый солдат успел научиться?.. Советских офицеров связи и корреспондентов, пытавшихся провести беседы с бывшими военнопленными и угнанными гитлеровцами советскими гражданами, близко не подпускали.
У ворот лагерей собирались хулиганские демонстрации. Угрожали, а тех, кто пытался прорваться через заслон «комитета», иногда находили скоропостижно скончавшимися. Война продолжала получать свои жертвы. Это была тайная война, начавшаяся на территории, занятой победившими союзными армиями. В западных зонах Германии расцвел ядовитый кустарник, бережно подстригаемый и удобряемый опытными садовниками из «Восточно-европейского фонда», фондов «Рокфеллера», «Форда», «Корнеги». Их деньги не бросались на ветер, «Центральное объединение послевоенных эмигрантов» и «Национально-трудовой союз» из кожи лезли, чтобы оправдать надежды хозяев. В Мюнхене, во Франкфурте-на-Майне, в Кауфберкайне и Бад-Берисгофене заботились о подготовке бойцов. По проверенной американской системе готовили диверсантов-шпионов в практических школах и даже в «Институте по изучению истории и культуры СССР». Газеты и радиостанции, не умолкая, призывали «русских людей идти в крестовый поход против большевиков». Лозунг старый, потрепанный и облинявший, как ширма бродячих циркачей, плохо скрывал истинное назначение сенатских ассигнований. Но с каждым годом «Национально-трудовой союз» испытывал все большие трудности.
В израненных, разрушенных жестокой войной городах и селах Советского Союза происходило то, что нельзя было скрыть даже за самым плотным железным занавесом. Ни надежды, ни обещания пропагандистов «Освобождения» не оправдывались. Американские школы начинали учебный год с недобором, а письма с просьбой разрешить вернуться на родину росли. Эту правду скрыть не могли. Многие из тех, кого удалось отправить в Советский Союз на ночных самолетах с пистолетом, фальшивыми документами и смертельным ядом, зашитым в воротничке, обманули старательных учителей. Хозяева злились, скупели. «Жалкие трусы, не сумевшие вовремя покончить с собой», шли в советские органы безопасности, моля о прощении. Главари «комитетов» в досаде грызли ногти и старались любыми путями находить новых «борцов за освобождение».
То, что беспокоило Данилу Матвеевича во время посещения им Барклаева, началось еще в первые дни организации английской группы «Национально-трудового союза». Видно, английская почва оказалась менее пригодной, чем германская или французская. Группа таяла, как желтый лед под весенним солнцем. Даже напуганный мальчишка Валькович и тот убежал, стоило только заставить его заняться делом.
С невеселыми думами собрался «цвет лондонских активистов» в русском ресторане «У Любы». Случайный посетитель, пожалуй, ничего русского в нем не заметит. Вывеска написана по-французски, мебель, скатерти, сервировка такие же, как у десятка других небогатых тесных ресторанов южного Кенсингтона, одного из центральных районов Лондона. Официанты говорят по-английски, по-французски или по-немецки, и почти никто не знает русского. Только повар да редко выходящий к гостям владелец ресторана могут без особого напряжения произнести слова: «расстегай», «щи», «кулебяка» и даже пропеть «Вечерний звон». На окошках, закрытых домашними кружевными занавесками, герань в горшках да в конце узкого зальчика, над стойкой, картина «У Иверских ворот». Вот и все, что говорило об истинно русском патриотизме основателей ресторана и его постоянных, немногочисленных посетителей. На угловом, английском диване, за столом, уставленным закусками и бутылками старой смирновской водки, сидели: Данила Матвеевич, мистер Барклаев и остроносенький, с лицом, как лисья мордочка, гитарист Поль. Четвертый, сухопарый, похожий на Шерлока Холмса, что еще подчеркивалось бесконечно дымящей трубкой, элегантно одетый Макс, сидел в низком кресле, немного в стороне от остальных.