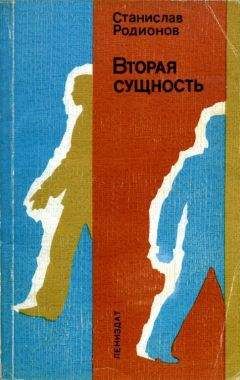— Электричество откуда? — спросил я. — Телевизор откуда? Махонький приемник? Одежа вся? А вот эта вилочка с груздочком из какого металла? А рыба мойва откуда?
Павел чихнул с подвывом на всю избу и подскочил, будто ему ошпарило седалище. А он и верно, хватился за него да еще и похлопывает, как бы тому жарко. Гляжу, пар оттуда валит белый. Дорого обошелся Павлу чих — наподдал он электрический самовар, и произошло расплескивание.
— Сядь в кадушку с колодезной водой, — посоветовал я.
А Павел сделал палец перстом и ткнул меня в грудь, как той самой вилкой из городского металла:
— А у городских совесть где?
— А где?
— У бабуси в ерунде!
У меня щеки закололо — это кровушка прилила. Я их потер, разгоняя ее, кровушку.
— Поскольку я городской, так получаюсь вроде как без совести?
— Обронил ты ее в эту… в городскую унитазу, — подтвердил Паша.
Я встал легко, самостоятельно и сгреб свой горбовик. Ум кричит, а глупость молчит. То есть наоборот.
— Коль!
— А?
— Ты куда?
— На попутку, Паша.
— А чай пил?
— Нет, не пил.
— Бабка-ёжка, без чаю черти укачают.
По чашке грузинского чая номер триста мы выпили молча. Врать не буду, с малиновым вареньем. А потом Паша на меня как бы облокотился. А я на него как бы оперся. Тогда он зашелся на всю Тихую Варежку:
Всего горя не приплакать,
Всей тоски не притужить.
Ну а уж я грохнул подальше, до свиносовхоза:
Не лучше ль половиночку
На радость положить?
2
На новом месте сплю я пугливо.
Комар ныл в ухо, как зануда какой. За окошком кто-то вздыхал по-коровьи — не земля ли весенняя? Павел храпел вроде хорошего компрессора. Пол с чего-то поскрипывал: не подметает — вот и завелись всякие привидения. Под утро соседский петух стал выходить из себя. А потом разорались несмазанными глотками эти самые гуси — к воде шастали…
Я вышел на крыльцо и сперва глянул на озеро, а вернее, оно само на меня глянуло своим окоемным простором. Господи, все горело без пламени и дыма… Солнце над водой, вода под солнцем, а травка молодая зеленым блеском растеклась по берегам.
Чего это? Аж в носу засвербило и к глазам пошло. Запах, что ли, лег на душу?.. Мокрой земельки, деревенской, из-под копыта. Водицы свеженькой, с рясочкой. Бревна смолистого. Тополя клейкого, — березам еще рано.
Жил я, поживал в городе, а душа-то ничего не забыла.
— Зачем носом сопишь? — спросил Павел, прищуривая свои щелочки от солнца.
— Землю нюхаю.
Тут я увидел в небе чудо — размашистая птица давала круги над избой. Сама белая. Ноги длинные, как из проволоки. Не летает, а плавает.
— Что за цапля? — спросил я.
— Аист разведует.
— Чего разведует?
— Как люди повстречают.
— А он чего — сомневается?
— Еще бы не сумлеваться… Гоняют их. В прошлом годе Федька Лычин пальнул в них из двухдулки.
— С какой такой целью?
— Бают, пожары от них. Головешку может заволочь в гнездо…
Аист как бы положил крылья на воздух, и его несло по небу своим ходом без всякого шевеления. Загадочная птица, неестественная.
— Никак он твой облюбовал?
— Пустая хлопотня. Крылья-то у него двухметровые. В ветках не размахнуться. Ему бы плоский столбик.
— Паша, дай-ка ножовку…
Как был, в рубахе, полез я на тополь. Сперва на заборную перекладину, потом на острую частоколину, там на тополиный нарост, а уж выше пошли толстые суки чуть не лесенкой. Пыхчу, но лезу, не спешу. Почки липкие давлю — запах, прямо надо сказать, как у одеколона для бритья.
— Не сверзнись, — подсказал снизу Павел, который и вовсе стал лысым малюткой.
Как только дерево потоньшало, а макушка приблизилась, я сел на сук и отдышался. Хорошая развилка — пять лесин толщиной в мою руку отходили от ствола равномерно вроде колесных спиц. Тут гнезду и быть.
Я вынул из кармана проволоку и обвязал все пять лесин так, что вышло подобие паутины. Приноровив ножовку, стал пилить ствол у самой основы этой развилки. И не удержал, спиленный-то, много было еще наверху, — полетела моя вершина наземь. Зато плацдарм был готов: круглый пенек и пять суков, проволокой перетянутые. Суками-то их надо было еще сделать. Я опилил каждую лесину, отступая метр от ствола. А ветки не выбрасывал — клал на мой плацдарм да уминал, да потом обнаглел, поднялся во весь рост и утоптал. Вот теперь плацдарм, вот теперь плоскость.
Спускаясь, я приметил, что лысина моего Паши закурчавилась черными волосами. Сойдя наземь, узрел, что вместо Паши стоит бабенка плотного телосложения лет пятидесяти, в которой я опознал его соседку.
— Если нет ошибки, то вы есть Анна?
— Не страшно в ваши лета лазить по-обезьяньи, Николай Фадеевич?
— А какие такие мои лета? — удивился я, вытягивая ножовку из-за ремня брюк.
— Так ведь, наверное, как и мои, — засмущалась она, словно красная девица с пряником.
— Муженьком не обзавелись? — полюбопытствовал я просто так, поскольку стоял на воздухе.
— Я, Николай Фадеич, корову завела…
— Оно, конечно, лучше, — согласился я.
Только это Анна колупнула носком резинового сапога влажную земельку… только это я хотел сказать насчет приятной погоды… как с крыльца гаркнул незнакомый и даже нечеловеческий голос:
— Кольк, иди сегоднякать!
— Как? — не понял я.
— Завтракают завтра, а сегоднякают сегодня.
Анну как в озеро сдуло. Я глянул вверх — не Анну искал, а смотрел аиста. Его не было ни на моем плацдарме, ни в синем небе. Не оценил, подлец, моих душевных усилий…
Сев к столу, Павел оторвал у емкости жестяную головку.
— Нужен ему твой пенек… Он лучше поглотает лягушек в болоте.
— Паша, я не приму.
— Ай заболел?
— Хватит, вчера отпраздновали встречу…
Павел-то непьюшка. Из-за меня бутылку выставил, поскольку гость. Ну и спрятал ее в шкапчик на покой. А я смекнул, почему он вместо завтрака сегоднякает. Супчик выставил, сваренный опять-таки ради гостя. Значит, так: вода, резаная картошка да мною привезенные сосиски, которые он резал ножом на две поперечные половинки. Эти сосиски плавали себе, как в проруби.
— Паша, мне охота пожевать продуктов натуральных, — сказал я, берясь за грибочки с огурчиками.
— В городе-то едите одни протезы…
Так мы и сегоднякали. Он ел городские сосиски, а я деревенские груздочки, похожие на помятые шляпы. Вот чай номер триста пили мы оба, поскольку чай есть напиток застольный, грузинский.
— Ты на нее не пялься, — сказал Павел как бы самовару.
— На кого?
— Она женщина легкомысленная. На мужиков глядит, как ты на эти грузди.
— Кто?
— Ее мужа тоже звали Колей, а опосля была дюжина колезаменителей.
— Наговариваешь, Павел?
Мы налили по второй чашке. Видать, чай тоже располагает к беседе, поскольку Паша сказал, прищурившись, как дикая рысь:
— Хочу подать тебе совет…
— Ну?
— Насчет своей Марии-то не дури.
— Советы, Паша, вроде мелкого ремонту. Подкраска там, шпаклевка, побелка… А помогут они, ежели капитальные стены треснули?
— Ты мне филидристику не разводи, а слушай.
— Я, Паша, слушаю, но как этот самый индийский йог: в одно ухо впускаю, а в другое выпускаю.
В прошедшие времена русские люди пили чаю больше. А теперь пошла мода на кофе да компоты. Опять-таки помидорный сок. Мужик мне один говорил, что во всем есть то, из чего оно состоит: в кофе — кофеин, в чаю — чаин, а в какао — какаин.
Взяли мы по третьей чашке.
— В городу у вас такая мода… Любовь, мол, ушла, и мы друг другу помахаем ручкой.
— А возможно жить вместе, Паша, коли причинена душевная боль?
— Марией, что ли?
— Хотя б и Марией.
— А ты мешок на плечи и бежать от жены? Фронтовик, называется, бабка-ёжка…
— Где тут связь одного с другим?
— Где? У бабуси в ерунде!
Про чай я скажу так: в нем есть все, кроме градусов, да ведь градусы не всегда и требуются. Но есть в чаю то, что, видать, покрепче градусов. И оно, которое вместо градусов, стукнуло Павлу в башку.
— Сидим мы с тобой в окопе, а ты возьми да и уползи, к примеру, в медсанбат или подале в тыл… Кто ты будешь?
Ум молчит, а глупость кричит — не стал я и отвечать.
— Меня этим не возьмешь, я тебе не бабка-ёжка. Разлюбил и ушел — молодец, мол, ученый человек. А что есть жизнь, Коля?
— А что есть жизнь, Паша?
— Та ж война, только безокопная. Это как в море пойти вдвоем в одной смоленке. Тут тебе и неприятности, и начальство, и старость, и болезни, и всякие стихийные циклончики налетают. Женятся-то, чтоб вместях переплыть это море. Об этом и договариваются. Неужто живут из-за одной любви? Верно говорят, что, мол, он или она бросили друг дружку. Бросили посреди житейского моря. Я б сказал, и не бросили, а предали. Как бы на почве любви перелез в другую лодку, а ты дальше греби одна, авось выплывешь.