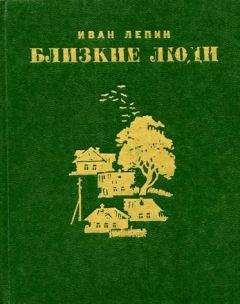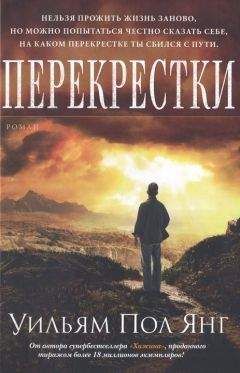И он, не раздумывая, повернул обратно.
1
Начало мая. С неделю назад сошел последний снег. На обочинах городских тротуаров, даже у подъездов многоэтажных домов, нежа глаз и сердце, зацвела неброская мать-и-мачеха. На клумбах проклюнулись петушки и лилии.
А ближайший парк наполнился гомоном вернувшихся из дальних краев птиц. Да и оседлые — синицы, сороки, воробьи, дрозды-рябинники — тоже радовались наступившему теплу, неистово звенели, стрекотали и чирикали. Под кустами появились листочки кислицы — первое лесное лакомство детей и взрослых.
Проснулись пчелы и шмели.
В такую пору тянет на улицу, на природу — подышать весенним воздухом, понаблюдать пробуждение всего живого.
А у меня на руках — направление в больницу.
Больше всего я боялся многоместной палаты с ее неизменной духотой: в духоте не могу спать.
А тут — всего три человека. Просторно, окно большое, чистое. Больничный двор большой, и шум улицы, проникая к нам, заметно терял свою силу.
Медсестра указала мне на койку возле окна и ушла.
Я назвался.
С койки у противоположной стены приподнялся на локте мужчина крепкого телосложения. Было ему лет тридцать.
— Ну, а меня зовут Вячеслав. Проще — Славка. Язвенник, — сказал он. Видно было, что Славка — парень веселый. — А это дед, — кивнул он в сторону человека, лежавшего на средней, койке.
— Зовут-то его как?
— Зовут? Дед. Я его дедом зову. Вообще-то его фамилия Хвостов, Федор Павлович. Только на имя-отчество он не откликается. А на «деда» клюет… Эй, дед, спишь, что ли? Новенький к нам прибыл.
Дед медленно повернулся, приоткрыл один выцветший глаз. Посмотрел на меня и снова закрыл его.
— Оклемался уже, — сказал Славка. — Дней десять назад чуть живого привезли. Сердце почти не билось. А вот оклемался. Сегодня я его даже в туалет выводил.
Назавтра дед смотрел в мою сторону приветливее: видно, выздоравливать начал.
В обед жена принесла мне книги, свежие газеты. Предложил почитать и деду. Из газет он выбрал «Известия». От «Литературной газеты» и «Советского спорта» отказался:
— Там не разыскивают наследников, у которых за границей умерли родственники? Нет? Тогда не возьму.
2
Все чаще дед Хвостов стал выходить в коридор. Читал и перечитывал там всякую всячину, развешанную на стенах: санбюллетени, приказы и распоряжения главврача, рекомендации по правильному питанию. Но дольше всего задерживался у стенгазеты «Данко», выпущенной к первомайским праздникам.
Однажды, вернувшись из коридора, спросил:
— А что это такое — «Данко»?
Славка захихикал:
— Ты, дед, разве в школе не учился?
— Учился маленько, но не помню.
— Может, Славка, в его времена «Старуху Изергиль» и не проходили, — сказал я. И — деду: — Данко — это герой рассказа Горького.
Дед повернулся в мою сторону.
— А чем же он герой?
— Как в двух словах объяснить? Людей он из леса выводил. А когда темно стало, вырвал из своей груди сердце и освещал им дорогу людям.
— Эт-то как вырвал?
— А так.
— И жив остался?
— Жив.
— Хм, — почесал дед за ухом. — Может, и я, как Данко, могу — без сердца, а? Может, и у меня такой же организм? Зачем же меня упекли сюда, всю задницу искололи?
3
Славка был с дедом запанибрата, иногда подтрунивал над ним, расспрашивал об очень личном, и дед, к моему удивлению, не обижался.
Предвечерье. Только что отужинали, и деду медсестра принесла очередную порцию какого-то порошка. Дед высыпал порошок в ложку, дрожащей рукой залил его минеральной водой и выпил.
— Тьфу, твою мать, когда эту заразу только отменят, — ворчит он, слизывая с ложки остатки порошка.
Славка заходился в смехе, слушая эту ругню.
— Это тебе, дед, не колокола с церквей сбрасывать.
Дед как-то обмолвился, что любимым его занятием в тридцатые годы было снятие с церквей крестов и колоколов. Теперь вот Славка изголяется над ним, и дед молча сносит это.
Запив порошок, дед Хвостов успокаивается. Подложил руки под голову, смотрит в потолок.
— Дед, — подает голос Славка, — а из-за чего ушла от тебя первая жена?
Дед лизнул верхнюю усатую губу.
— Все-то тебе, Славка, интересно знать.
Сказал это дед, и по интонации я понял, что он не против припомнить старое.
Так оно и случилось.
— Ладно, — сказал после некоторого молчания дед, — расскажу. Оно и вправду забавно вышло. Лет восемнадцать-двадцать назад это случилось. Сейчас я кефир люблю, а тогда любил кое-что покрепче. А вот Августе моей это почему-то не нравилось. Ну, я не сдерживался иногда: она в меня — словом, я в нее — табуреткой или утюгом. Однажды прихожу домой и что я вижу: за столом сидят два моих друга и пьют чай. Меня приглашают. Я присел. «По какому поводу, — спрашиваю, — без меня ко мне пришли?» — «Мы к Августе, — отвечают, — пришли, а не к тебе». Ах, так вашу!.. Хватаю топор… Смотрю, а один друг уже слинял. Второй же со страха под стол, лезет. Я по столу топором — грох! Топор в доске застрял, друг из-под стола — шмыг на улицу. Августа, значит, их приглашала! Вот тебе, жена, за измену, вот, вот! Громлю топором налево и направо — шкафы, посуду, стулья, окна, тряпки всякие. Только как же это так Августа безнаказанная осталась? Где она? Тоже вышмыгнула? Догнать ее и покарать! Что, дверь подперли с той стороны? Найдем другую дверь! И я «вышел» со второго этажа через окно… Очнулся в психиатричке с поломами и ушибами. Лечился. Во время лечения и узнал, что у меня был приступ белой горячки. Никакие друзья ко мне в тот вечер не приходили — это мне почудилось. А тот, кто прятался под столом, была моя Августа… Ушла она после этого от меня, вместе с дочкой… Побоялась, дурочка, что зарублю. А я б ее, может, и не тронул…
— И где она сейчас? — спросил я.
— Уехала к родне. Вроде бы в Кемерово.
— А дочка?
— Не знаю. Взрослая уже, должно быть, теперь замужем… Правильно, что не вернулась тогда Августа. Тронул бы я ее, тронул, не сдержался бы.
4
Дед прочитал в «Известиях» фельетон о плохой работе службы быта, задумался.
— А и у нас в городе не лучше парикмахерские работают, — сказал он. — Я тоже как-то зашел постричься на вокзал, так битый час прождал. Два мастера всего. А как работают? Хи-хи-хи да ха-ха-ха между собой, а мы, значит, жди. Безобразие. Ну я взял и написал в нашу областную газету. Вскоре приходит ответ: факты подтвердились, одна из парикмахерш переведена на месяц уборщицей. — Дед положил «Известия» на тумбочку, спрятал руки под одеяло. — А прошлой зимой, — продолжал он, — возле нашего дома (а он у нас со старухой частный) прокладывали траншею. Ну, экскаваторщик и давай мерзлую землю этим, клином — или как его? — долбить. От ударов у нас печка развалилась. Я — раз! — и в газету. Безобразие, мол…
— Ты, дед, смотрю, часто пишешь, — перебил Хвостова Славка.
— А чего не писать? За это даже деньги платят.
— И сколько ж тебе за экскаваторщика заплатили?
— За него не заплатили, только печку помогли переложить. А вот за заметку про попа Авдея я получил… э-э… двенадцать или пятнадцать рублей — давно это было, в двадцать восьмом году. Пьяница у нас в деревне поп был, ну я его и протянул.
— И тебя напечатали? — не верил Славка.
— А как же! У меня и этот номер «Бедноты» хранится.
— Вон какой ты у нас! А мы думали, — кивнул в мою сторону Славка, — ты простачок. А ты — себе на уме. Исподтишка можешь и укусить. Ты смотри, нас не протяни.
— Будь спокоен, Славка, вы мне ничего плохого не сделали. А вот Клаву, медсестра которая, стоит пропесочить: больнее всех уколы делает. Безобразие! И как ей только больных доверяют?!
5
От нечего делать вспоминали всякие смешные истории. Рассказывали мы со Славкой, а дед только слушал и ухмылялся, поворачивая голову в сторону то одного рассказчика, то другого.
Но вот и он что-то припомнил. Поднялся на подушке, сделал знак рукой, чтобы ему дали слово.
— А у меня был случай, — начал дед. — Жили мы тогда еще с первой женой, на Заимке. Однажды, в середине дня примерно, залетает к нам Мария Субботина, знакомая. Августы, ставит пятилитровый бидон и говорит: «Спрячь, Федор Палч, под кровать до вечера, я с работы буду идти — заберу». И убежала. А работала эта Мария на мясокомбинате. Открыл я бидон и ахнул: он доверху был набит мясом. Смекнул: краденое обнаружат, и мне несдобровать. И отнес бидон в сарай, укрыл его всякой рухлядью. Только закрыл сарай — милиция: лейтенант, а с ним младший сержант. «Не видели, гражданин, женщину с бидоном? — спрашивают. — Такая из себя, шустрая, нос, как у утки». — «Не встречал, — дрожа от страха, отвечаю. — Но если увижу, доложу». Милиционеры пошли дальше, а я перекрестился: пронесло, слава богу. Да… А вечером заявляется Мария. Глазами зырк под кровать, доставай, мол, Федор Палч, бидончик. Я, не дожидаясь ее слов, и говорю: «Что ж ты меня, Маша, подвела? В бидоне ведь мясо было, и не купленное. Безобразие, говорю, у меня обыск из-за тебя делали: конфисковали твое добро. Чуть и меня заодно не забрали. Еле убедил милицию, что тебя я не знаю, что насильно ты всучила этот растреклятый бидон. Так-то вот. Нехорошо, говорю, Маша, знакомых под статью подставлять». Она стоит, опустивши глаза, — поверила в мою выдумку. Извинилась и ушла. А мне того и надо: считай, с неба полпуда мяса упало. Я потом Августе сказал, что купил его, и деньги с жены потребовал. Назавтра, правда, спустил все дочиста.