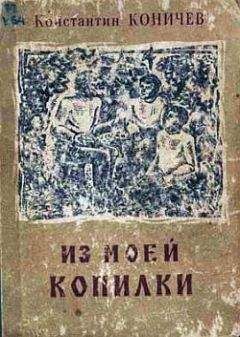И тут же, не утерпев, добавил шепотом:
– Нас-то запросто мастерят, а вот откуда у попа дочки берутся, про то и моя мама не знает. Я опрашивал, есть ли у попа под ризой штаны или он как баба?.. Мама меня за ухо и за волосье дернула, а не сказала. Вот придет к нам поп, приподниму я ризу палкой и увижу…
БЫЛО мне года четыре. Мой отец отделился от своего старшего брата Михаилы. Зажил самостоятельно. Была у отца бурая лошаденка. Своими руками соорудил отец телегу. Поехали в село.
Несколько пар сапог сшил отец на продажу. Сапоги в драночном коробе. Отец и мать сидят спина к спине, свесив ноги с телеги. Я – посредине.
Впервые за свои четыре года я вижу соседние деревни, чуть побольше нашей, с часовнями и с крашеными избами. А самое село с церквами, с колокольным звоном, с магазинами и множеством людей, лошадей и телег даже как-то испугало меня.
А что будет, если отец с матерью отойдут от телеги, затеряются в шумном народище, куда я тогда денусь? И верно, я оставался подчас один в телеге. Мать отлучалась со своим кружевным товаром, завернутым в чистый платок. Отец, закинув сапоги на плечи и держа две пары в руках, громко покрикивал в толпе:
– Крепче этих нет на свете! Налетайте, покупайте!..
Все было улажено. Сапоги и кружева проданы. Деньги подсчитаны. Кожа для шитья сапог куплена. Как по такому поводу не позволить отцу выпить? Мать, взяв меня за руку, торжественно по крутой лестнице поднялась к Селянкину. На столе большой чайник с железным рыльцем, связка кренделей. Чего же лучше?
Из чайной возвращаемся домой.
Проезжая мимо строящейся полукаменной школы, отец показывает на нее кнутовищем и уважительно говорит:
– Заводчик Никуличев, главный благотворитель, сорок тысяч рублей выдал на постройку. Учить будут. Отсель пойдут конторщики, бухгалтеры, приказчики… На сорок-то тысяч не один дом, а можно пять деревень построить, как наша Попиха.
Сурово посмотрел на меня, добавил памятные слова:
– Вырастай, Костюха. Отдам я тебя в это училище, будут тебя тереть, как теркой, выучат, вовек отца станешь помнить. Отсюда прямая дорога в скубенты. Тебе учиться, а мы с матерью поработаем, сами выдюжим и тебя в люди вытянем…
Из этой поездки в село остались в памяти незабываемые слова отца: «Будут тереть, как теркой».
Не испытал я в этой школе сладостной боли познания. Не коснулась меня «терка» строгой школьной дисциплины. Жизнь обернулась и пошла по другому направлению, а не так, как отец хотел.
Жаль. Многое было бы иначе. Хуже или лучше, но иначе…
СТАРИКИ, и те не помнят, с каких пор завелась враждебная рознь между деревнями, принадлежавшими когда-то помещику Головину, – головинскими и бывшими монастырскими. Кажется, все поделено, размежевано, узаконено. А по прежнему обычаю существует необъяснимая вражда, сопровождаемая драками.
Мне пришлось быть очевидцем одного незабываемого сражения.
Было это во Фролы, в большой пивной праздник. Пожалуй, в девятьсот восьмом году. Моя мать еще была жива. Она уговаривала отца не ходить «в эту кашу».
– Убьют, на кого ты нас с Костюхой покидаешь! Не пущу!..
Отец не послушал мать, оттолкнул ее, вытащил вересовый кол из изгороди и заторопился к драке.
Сходились две большие партии, две шатии. Шли стеной одна на другую, человек по пятьсот, как потом стало известно. От Ивановской шатровой мельницы под гармонный и частушечный рев двинулись из монастырских деревень матерые парни и подростки. Навстречу им вышли из Боровикова таким же слаженным строем, не меньше числом и с такой же «музыкой» головинские головорезы, не раз прославленные в драках прежде.
Вооружение – железные трости, колья, булыжники, гири на ремешках. Ножи запрещались неписаным за коном и взаимным пониманием, ружья не допускались тоже, а револьверов ни у кого не было.
Мы с матерью стояли на берегу Лебзовки, примерно за полверсты от места драки.
Неистовые крики, ругань, треск кольев, рев битых и даже «ура» заглушили все земное, человеческое.
Помню, мать с заплаканными глазами высматривала, где в этом месиве мотается мой батько. Но в многолюдной толчее, да еще издали, ничего не разобрать.
Девки головинских деревень под руки приводили к нам на бережок раненых. Отмывали водой, перевязывали платками, разорванными рубахами.
С двух сторон битых-перебитых всерьез и налегке насчитывалось свыше двухсот человек. Большинство из них на своих ногах могли добраться до Устьянской больницы.
Драка считалась вполне мирной, без жертв. И потому не вошла в историю генеральных драк головинщины с монастырщиной, скоро была забыта.
Мой отец от удара острым камнем чуть повыше левого глаза получил в схватке глубокий шрам и некоторое время гордился этой отметиной, как наградой…
Из-за чего назревали и возникали драки, ни тогда, ни после никто не мог объяснить.
ОТ ДЕРЕВНИ Ивановской до речки Лебзовки они мчались – пыль столбом. На речке спешились, выкупались и стали коней купать. Из нашей Попихи все это видели, и, поскольку от казаков добра не ждали, мужики поголовно, кроме десятского Пашки Петрушина, попрятались, кто где мог. Кто в сарае в сено зарылся, кто в подовин за печку укрылся, в стога и в скирды залезли, а некоторые догадались убежать в кокоуревский ельник, куда никакой казак не проберется при всем желании. Остались в деревне одни бабы с ребятней мал мала меньше.
Шесть всадников в белых гимнастерках, ружья за спиной, сабли сбоку, въехали в Попиху. Несколько баб перестали на задворках шевелить сено, вышли на улицу. Притихли, с опаской поглядывая на круглолицых, упитанных казаков. Старший из них крикнул:
– Бабы, молока! Да нет ли похолодней, с погребка?!
Шесть кринок молока опорожнили казаки мгновенно, не сходя с лошадей. Один из них сказал за всех спасибо и спросил:
– А почему такая мертвая деревня? Где мужики?
Бабы неохотно ответили:
– Кто где – кто на сплаве, кто на рыбалке, кто на пожнях докашивает…
– Не нас ли испугались?
– Зачем пугаться, – отвечали бабы, – наши мужики смиренные, зла никому не делают. Стегать их не за что… – Говорят бабы, а сами робеют: у казаков нагайки в руках плетеные, с оловянными наконечниками.
Из другого конца деревни по пыльной улице в стоптанных валенках, не робея, шел, переваливаясь с боку на бок, бобыль Пашка Петрушин. Подошел, поклонился:
– Здравствуйте, господа начальнички… И нас не миновали. Ваше дело тоже подневольное – куда пошлют да что прикажут, то и делаете. Служба!
– Смотри, какой философ! Ты лучше скажи нам, почему и куда мужики попрятались? – спросил старший.
– Куда – не знаю, а почему – известное дело почему: не хотят быть поротыми.
– А за что? Чего они такого натворили?
– А ведь и ни за что можно под горячую руку. Страху-то вы кое-где поднагнали, вот и прячутся.
– Да не ври, Пашка, на людей, все при своих делах, никто не хоронится. Чего тебе дурь в голову лезет напраслину возводить? – возразили бабы.
– Во все века прятались, – невзирая на соседок, продолжал Пашка, – наша местность такая: от Грозного Ивана прятались, от новгородцев прятались, от польских панов прятались, от никоновцев прятались, теперь вас побаиваются. А почему? Рассудите сами…
– На обратном пути рассудим, – пообещал старший, – зря прятаться не стали бы. Видно, есть отчего.
– А ничего нет, – занозисто ответил Пашка, – у нас тут не плуты и не воры, не разбойники. А свой закон: береженое и бог бережет, против сильного не борись, с богатым не судись…
– Поехали, хлопцы! – скомандовал старший.
Пришпорив коней, все шестеро понеслись по большому проселку.
– Бог миловал! – перекрестились бабы.
Казаки возвращались из своего объезда другим путем. Больше их в Попихе не видали.
КОГДА смерть стоит у порога, не трудно догадаться, что она скоро войдет в избу.
Моего отца, охваченного после очередной драки «антоновым огнем», фельдшер объявил безнадежным. Отец принял этот приговор довольно спокойно, сказав:
– Сам вижу, сам знаю… Позовите попа, может, есть тот свет, пусть исповедает.
Привезли попа. Накинув на себя серебристый набрюшник-епитрахиль, поп прочел страничку из Евангелия, поспрашивал отца о грехах, причастил, ткнул крестом в губы и, получив монетки, уехал восвояси.
У отца было еще время отдать кое-какие распоряжения:
– Умру, выходи замуж хоть за черта, только не обижай сироту Костюшу, – завещал он моей мачехе, прожившей с ним всего полгода.
Меня он погладил по голове, прослезился:
– Жаль, не вырастил тебя, не выучил птенчика летать… Будешь большой – умей за себя постоять. Выучись…
Я ответил ему слезами.
– Разобрало, значит…
Он лежал на широкой лавке, к ней была приставлена скамейка, чтобы больной, разбитый в драке отец не скатился на пол. Левая рука у него от самой кисти и до плеча ужасно распухла и посинела до черноты. Это и был антонов огонь. На указательном, распухшем пальце резко обозначилось белое, как из сметаны, кольцо.