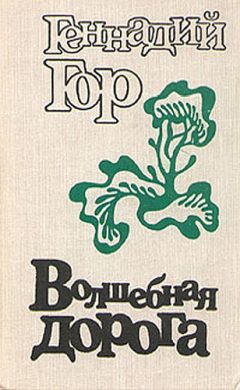Он смотрел на меня, как на лицо, исполняющее эпизодическую роль в спектакле, поставленном жизнью и им для него одного.
Был ли он одним и тем же человеком? Это еще требовалось доказать. Забегая к нам или пробегая мимо нас, он каждый раз менялся, превращая себя в новый образ и надев новый костюм и новое выражение на свое лицо.
Он поселился в моем сознании. Забегал в мои ночные сны и выбегал из них. И в моем сознании он поселился где-то рядом с поэтическими воспоминаниями и ассоциациями, с Евгением Онегиным, с Печориным (у него он реквизировал усики), с Жюльеном Сорелем и с теми белыми офицерами, которых он играл в фильмах и на сцене.
Стоило мне остаться одному или задуматься, сидя в трамвае, как я мысленно уже видел его ноги, бегущие по лестнице, ноги, несущие вместе с ним тот особый мир, где сейчас раздастся аккомпанемент, послышится музыка, чтобы включить его, торопящегося на репетицию, и меня, оказавшегося рядом, в таинственную реальность, притаившуюся за занавесом.
Занавес, именно занавес. Я наконец нашел незаменимое слово. Этот занавес то подымался, то опускался, пряча от меня Ирину и делая таинственной мою жену, словно она уже из обычной, вполне реальной женщины превратилась в персонаж, в нечто такое, что уже не полностью принадлежит мне и моим привычкам, а, как образ на сцене, готова уйти куда-то, чтобы возвратиться в мыслях и снах.
Он, преображавший себя в других, сумел и мою жену превратить в другую женщину.
Фонтанка, давно просившаяся на экран или на сцену, сама стала сценой, фильмом и спектаклем. Какой театральный художник раскрасил ее своей кистью, заставил играть огнями и душами зрителей, раздав контрамарки всем, кто шел вдоль нее, видя эти вечерние сны, сны наяву?
Возле нашего дома стали собираться толпы студенток и школьниц, ожидающих, когда появится артист. И он появлялся каждый раз обновленный, словно надевший не только новый костюм, но и примеривший новое тело на свою душу лицедея, способного заворожить и снова разворожить притихший, как после антракта, мир.
Казалось мне, что везде были выходы и входы и он входил и выходил сразу из нескольких дверей, как из разных эпох и столетий, — то одетый героем Шекспира и Гюго, то пришедший из советских пьес, то из моих ночных снов, где он вел бесконечное следствие и допрос по всем правилам колчаковской контрразведки.
Улица замирала при его появлении и начинала растворяться, словно на город уже упал туман, и огни становились призрачно-таинственными, словно их зажег сам Достоевский своей дрожащей от нетерпения и страсти рукой.
Он не шел, а скользил, как в моих снах или как на сцене, когда каждое его движение совпадало с ритмом музыки и с тем хмелящим сознание полубытием-полумифом, который способна создать гениальная режиссерская мысль.
Я тоже ловил себя на том, на чем ловили себя все эти студентки, дежурившие у дверей и ожидавшие чуда. Но для них это было только чудо, продолжение вчера виденного фильма или спектакля, а для меня это было жизнью, ставшей причудливой и странной оттого, что в эту жизнь случай привел его.
Он не шел, а скользил, скользил, скользил. И оттого что скользил он, стала скользить и жизнь, превращаясь в драму, где он и моя жена играли главную роль, оттесняя меня в эпизод.
Перед ним были раскрыты все двери, в том числе и дверь в мое сознание, и он входил туда скользя, окутанный чуть слышной музыкой, аккомпанементом, как персонаж в старинных готических романах, тоже пронизанный музыкой, музыкой, приносящей людям несчастье.
Иногда он был вполне реальным и развоплощал сцену и превращал ее в быт. Он жаловался моей жене на то, что он не невидимка и его везде поджидают и ловят осточертевшие ему поклонницы, и показал письма от завучей и директоров школ, которые пытались свалить на него ответственность за падение успеваемости. Оказывается, тысячи двоек были поставлены из-за того, что он отнял тысячи часов у заболевших театроманией школьниц.
Я надеялся, что моя уравновешенная и всегда справедливая жена будет на стороне завучей и директоров, огорченных и встревоженных падением успеваемости, но она сочла их письма лицемерными и ханжескими и целиком оказалась на стороне артиста. Она стала доказывать мне, что артист не может отказаться от своего таланта и обаятельности, жертвуя своим успехом ради спокойствия завучей и малоодаренных педагогов, не умеющих заинтересовать своих воспитанников и противопоставить театру и фильму интересный и умный урок.
Он жил, скользя словно на коньках, легко неся свое тело Протея.
Он проходил сквозь стены и сквозь тела и внедрял себя в сознание зрителей, словно каждое сознание было заранее забронировано им, как номер гостиницы в городе, куда он должен приехать на гастроли.
О нем говорили в трамваях, в автобусах, за чаепитием в гостиных, в очереди за театральными билетами, в поездах, погружавшихся в ночь и ночной покой, где за окном вагона театрально и безопасно метет разыгравшаяся вьюга.
Он появлялся то тут, то там, словно сжалось пространство и время и превратилось в кадр, пытавшийся запереть его в миг вместе с землетрясением и бурей и выбросить этот миг на экран и в замирающее от боли и счастья сердце зрителя.
Но если для всех зрителей он был суммой образов, вбегавших в восприятие, чтобы напомнить всем, что на свете, кроме обычных людей, всегда являющихся только малой частью самих себя, есть еще и человек, способный всем выдать, как паек, свое собственное обаяние и остаться со своим капиталом, похожим на волшебный кошелек, — то для меня он был не только суммой образов, но и отдельным человеком, мужем Ирины и одновременно поклонником моей жены, поклонником, уже сумевшим заколдовать мой привычный и домашний мир, как он заколдовал экран и сцену.
Для чего он это делал? Я думаю, от избытка энергии, а может быть, от желания перенести игру со сцены в жизнь и посмотреть, что из этого выйдет.
С ним были в заговоре все вещи, стоявшие в нашей квартире, и больше всего трюмо, каждый раз пытавшееся столкнуть меня с моим ничтожеством, показать мне, какой я прозаичный и заурядный человек, способный исполнять только эпизодическую роль даже в своей собственной жизни.
Он еще не отобрал у меня моей жены, но уже отобрал часть бытия, превратил его в подобие затянувшегося сна, поссорил меня с обстоятельствами и вещами, уподобил герою какой-то фантастической сказки, с которым может случиться все, чего только пожелает волшебник. А волшебником был он сам.
Фонтанка тоже была в заговоре с ним. Она вдруг исчезала, давая играть ночным огням в пустоте, манившей меня, как манит падающее вниз пространство, когда смотришь в него, встав на подоконник раскрытого настежь окна.
Это сложное действие слишком затянулось, и душа уже тосковала по антракту. И совершенно неожиданно антракт наступил. Меня вызвал к себе секретарь творческой организации, в которой я состоял.
Он ли вспомнил обо мне или вдруг подобрел случай, столько времени забавлявший себя этой странной игрой?
— Ну посмотри на себя, — сказал он мне высоким плачущим голосом. Тень. И герои в твоих книгах тоже тени. А отчего? Кабинет, библиотека, театр и жизнь, увиденная из окна дома на Фонтанке. Нет, нет, жизнь, брат, это не мираж и не сон. Мой совет — поезжай хоть на месяц, оторвись от своих привычек. Мы дадим тебе командировку. Не то ты погубишь себя, погубишь…
Секретарь, добрый румяный толстяк, словно пивший ежедневно парное молоко и только по большим праздникам смешивавший его с водкой, помахал мне рукой, будто уже прощался.
А через неделю я уже сидел в вагоне поезда, идущего в Сибирь, сидел среди вещей и пассажиров.
Артиста здесь не было. Он остался там, вместе со своим театром и призрачной Фонтанкой, где, колеблясь, плавали сумасшедшие огни фонарей и освещенных окон.
И только наступила ночь, на средней полке, рядом с окном, показывающим, как за поездом гонится, ныряя в облаках, все та же театральная луна, он вошел в мой сон и стал скользить под звуки совершенно необыкновенной музыки, созданной еще более гениальным композитором, чем даже Стравинский или Шостакович.
Он скользил, скользил, скользил, и вместе с ним скользило бытие, не желавшее оставлять меня в покое, и я не мог оторваться от него и оказаться в другом измерении, о котором окая рассказал секретарь творческой организации, часто ездивший и не любивший мертвой тишины кабинетов и библиотек.
А он скользил, скользил, пока скользил один, а потом вместе с Ириной, и сцена вдруг превратилась во Вселенную, где наспех написанные декорации пытались закрыть бездну, ту самую бездну, которой удивлялся Тютчев.
Утром, по-прежнему легко скользя и почти танцуя, он выбежал из моего сна, наверно вспомнив, что ему пора на репетицию в Большой драматический театр, отделенный узкой и совершенно условной Фонтанкой, куском наспех написанной декорации, притворявшейся рекой, от того дома, где он недавно поселился, чтобы обратить в призрачное отражение мое когда-то спокойное бытие.