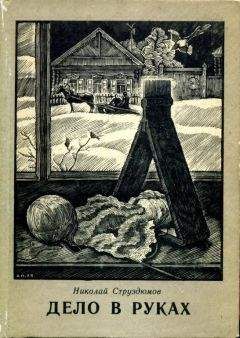Экономить на пухе — это уж последнее дело, это уж не платок. Ну и выделка, чистота работы и узор — само собой. Отсюда и качество складывается. А они на фабрике за качество вон как борются. Наши платки-то, говорят, в протчи державы идут. Государство за них, дескать, золотом получат.
Качественный платок что ж, он сам за себя говорит. Вон он — его сразу видно.
И перехватив обе спицы правой рукой, она делает левой широкий приглашающий жест в сторону пространства, заключенного между краем печи и кроватью. И светлеют, и молодеют ее глаза, и морщины разглаживаются. Оля и Света, следуя за взглядом тети Лизы, тоже смотрят в ту сторону и на некоторое время забываются.
Там все сверкает, искрится, смеется, и пляшут веселые новогодние звездочки.
Теперь все это уже окончательное, потому что волны тепла, идущего от духовки, обвеяли его и согнали последние капли воды.
А если отойти на расстояние, которое позволит глазу охватить все поле в один миг, то неистовая белизна как бы тронется легкой дымкой и начнет отдавать в синеву окрашенных светом луны январских сугробов.
Тетя Лиза поднимается, обходит кровать и от стены пристально, даже привередливо рассматривает белое ажурное поле на свет. И открывается оттуда уж иное.
Это зимний день, предшествующий одному из святочных вечеров. Солнечный свет, размягченный тонкими облаками, льется ровно. И сеется в нем реденький мелкий снежок. А теперь представьте, что в такой вот зимний день вдруг поплыло марево, как в сорокаградусную июльскую жару. И в этом мареве заколыхались редкие снежинки, а потом сразу все остановилось, замерло. Вот таким видится все это от тети Лизиной кровати.
Она подходит к платку сбоку и вплотную и дает вволю разгуляться глазу. И открывается ровное снежное поле и по нему — пушистые язычки начинающейся поземки — предшественницы трехсуточной метели.
— Тетенька Васса, покойница, учила меня паутинкам, — говорит тетя Лиза вполголоса и с молитвенным благоговением.
Она отступает на два шага и уже откровенно любуется своей работой.
Это — пятикруговой.
Пятикруговой потому, что в нем пять кругов — четыре по углам, а пятый в середине. На самом деле это не круги, а строгой формы ромбы. И каждый из них — особый разговор. Но что касается того, который в середине… Это самостоятельная единица. В нем свои елочки, следики, «цветочки» и перекосики. Это своя история и биография. Это государство в государстве.
Мягко и в то же время требовательно опирался он четырьмя плечами на меньших собратьев — тех, что по углам. И всех их прочно объединяла равная, глухотинкой сделаная «середка».
И все это смыкалось веселым паутинным, а по контуру — строгим четырехугольником каймы и, наконец, завершалось искусными зубцами или, как их еще называют, зубчиками.
Часов пять назад он был аккуратно вымыт после вязки в теплой воде. Потом, мокрый, сразу из воды, был растянут на деревянном четырехугольнике, утыканном специальными нержавеющими, из самоварной меди гвоздиками, — на пяльцах (от слова «распять», я полагаю). И если бы вы видели, как тетя Лиза натягивала его на эти самоварные гвоздики — с силой уперевшись ногою в пол и локтем смахивая капельки пота со лба, — у вас нервы лопнули бы в ожидании того, что вот-вот лопнет все это поле — с угла на угол, по диагонали. Но не лопнуло, а все растягивалось и растягивалось под неустрашимой рукой тети Лизы, как бесконечная резина.
Но растягивание на пяльцах — последнее и приятное дело. А до этого была вязка, а раньше — перебирание пуха, то есть отделение от волоса, выческа его специальными металлическими щетками, перепускание, прядение, ссучивание пуховой нитки с шелковой — работа кропотливая, требующая уйму терпения, тонкая и утомительная.
Они переходят в другую половину избы, которая служит кухней, ужинают, пьют чай. Потом снова рассаживаются по своим местам и берутся за вязание.
— Да уж тетенька Васса — вот ажурница была. Сколько она узоров знала — мне и половины не упомнить. Паутинки-то у нее так и светились, таки богаты да тонки были — прямо как бисером шиты. Видела я на той неделе ажурный платок. Серебряну медаль ему дали на выставке где-то за границей, в какой-то Бельгии, что ль. Подруга моей племянницы купила[3]. Связи есть — вот и достала. Ну, нет — совсем далеко тому медальному платку до паутинок тетеньки Вассы.
Ну, она, чего и говорить, — из Верхне-Озерной. Замуж к нам ее выдали. А они, верхнеузернински — сродушны ажурницы. Мне рассказывали: еще в старо время одна вывязала паутинку — на тысячу петель, а в ней — гребень, веретено и царску корону. К царскому наследнику вязала — он в то время здесь проезжал.
А уж в наше время одна тоже большую паутинку сделала, а в ней — Кремль. Я в музее видела. И она сама рядом сфотографирована. А другая в Индию их главной начальнице связала, имя ее не упомню… Тоже на тысячу петель. А та ей ковер прислала…
Тетя Лиза некоторое время молчит, погруженная в задумчивость и воспоминания.
— Да, уж истая мастерица была, тетенька Васса. И мне от нее хватило умения, а из-за этого — и уважения. Вот хоть на фабрике: моя фотокарточка, бывало, всегда на доске Почета. А на праздники, больше всего на Восьмого марта, подарки получала. Трудовую книжку до сего храню.
В другое время Оля и Света, может быть, пропустили бы мимо ушей разговор о трудовой книжке. Но сейчас у них перед глазами ажурный платок — наглядное свидетельство тети Лизиного умения, и они просят трудовую книжку показать. Тетя Лиза делает это с удовольствием.
Она открывает одежный шкаф, достает чистенькую картонную коробку и вынимает из отдельной стопки, перехваченной резинкой, потрепанный обветшавший документ.
Оля читает вслух:
«За высокие показатели в социалистическом соревновании выдан ценный подарок. Приказ номер тридцать. Седьмого марта тысяча девятьсот шестьдесят третьего года».
И еще читает несколько записей. Они все похожи.
— Отрез на платье давали, — поясняет тетя Лиза, — еще отрезы. Потом шелковый полушалок, их тогда не было. И еще много чего, сейчас уж не упомню. После и на пенсии до самого до прошлого года с Восьмым мартом поздравляли, открытки присылали, звали: приходите, мол, наведывайтесь, вяжите, приносите. Ну, нет, трудно мне теперь, не могу план гнать — силы не те, глаза не те. А так, чтобы изредка приносить, без выполнения нормы — и охоты нет. А тут я потихоньку, не торопясь, когда успела, тогда и связала, и на базар отнесла.
И все-таки внимание фабричных, поздравления и приглашения, видать по всему, крепко засели в голове тети Лизы. Потому что, вспомнив о фабрике, она надолго замолкает, а потом вдруг говорит:
— А все же сходить туда надо да повязать им. Деньжонки теперь есть и про запас, и Павлуше на посылочку. Вот довяжу эту паутинку и пойду у них заказ брать и материал на платок. Там как раз начальник цеха Лидия Ефимовна, говорят, скоро на пенсию уходит. Надо напоследок ей уважить. Пойду, обязательно пойду, — заключает она, словно кого-то убеждая.
Некоторое время они вяжут молча. Тишина нарушается только долетающими в избу завываниями метели, которая уже окончательно разыгралась за окнами. Да ровным, раздумчивым тиканьем часов. Да разгонистым тиканьем тети Лизиных спиц, бегущих наперегонки с часами.
У открытой духовки, на стуле, на мягкой подстилке, дремлет дымчатый кот, следя одним приоткрытым глазом за серебристыми клубками, лежащими на коленях вязальщиц. Когда какой-нибудь из клубков, обеспокоенный разматываемой нитью, начинает шевелиться, кот моментально настораживается, приоткрывает второй глаз и хищно топырит уши. Но клубок остается на месте, и кот, потеряв к нему интерес, снова начинает мирно дремать.
— Оно не зря все это дается — уважение, и почет, и подарки, — вдруг говорит тетя Лиза, видимо, откликаясь на какие-то свои давние мысли. — Умение умением, а главное-то — по правде надо жить. Моя мамака всегда мне говорила, а я вам скажу: если обманешь человека, тебе за то всегда отплатится. Ну, я и не обманывала никогда, за то и меня бог не обидел — живу не хуже людей.
Потом, вспомнив о чем-то далеком, вдруг тихонько-грустно улыбается тому давнему, минувшему и продолжает:
— Только один раз девчонкой, помню, — схитрила. Ну, это уж больше комедия, а не обман. Связала я тогда первую паутинку — на сдачу, чтобы значит, в государство сдать. Пухартель у нас к тому времю уж открылась. До того-то я все себе либо домашним делала. А тут — на сдачу. Ну, связала, довольная такая, вымыла свою паутинку, растянула, а она — батюшки! — одна половина хороша, бела, а другая — красна. Не совсем красна, ну, кремовата. Что делать?
А потом избы мы убирали при закате, я и заметила: когда солнышко садится, все красным кажется. Ну, вот, думаю, сдам ее, когда солнышко садится. Егор Васильич и не заметит, что она разноцветна. А Егор Васильич, наш сосед, пухартель образовал и ею заведовал. И вот значит, на другой день солнышко — на закат, а я — к Егор Васильичу со своей паутинкой. Пощупал он ее, посмотрел так и сяк и на свет и говорит: «Ну, вот, Лизушка, молодец, какой хороший платок связала». И уплатил мне как за качественный, будто без изъяна. Я уж потом сколько из-за этого мучилась, но и признаться побоялась.