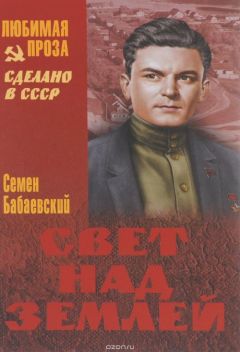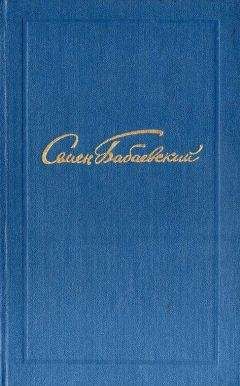В этот же день Татьяна побывала во всех бригадах, встречалась с людьми, и повсюду — и в обрывочных, случайно оброненных словах, и в беседах, и в обычных разговорах — она замечала, что колхозники ждут каких-то перемен в «Красном кавалеристе». И хотя никто так прямо, как Аршинцева, не говорил о Хворостянкине, но Татьяна и без этого понимала: именно Хворостянкин и был причиной многих недовольств…
Вечер застал Татьяну на сенокосе; обычно в прежние времена на сенокосе агроном колхоза появлялся редко, поэтому косари были удивлены ее приездом. Двое мужчин распрягли ее лошадь, пустили на траву, а Татьяну пригласили к копне ужинать. Повариха принесла полную миску степного супа, ломоть хлеба, и не успела Татьяна сесть на шелестящее, сухое и пахучее сено, как ее уже обступили и мужчины и женщины. Начался обычный разговор: рассказывали, кто о чем мог…
И вот тут, под копной сена, изъездив всю степь, Хворостянкин и нашел Татьяну. Издали увидев копну, чуть приметные в темноте головы людей и огоньки цигарок, Хворостянкин понял: да, именно здесь и шло одно из тех собраний, о котором говорил ему Кнышев. От этой мысли защемило сердце, мучительно захотелось услышать, о чем там они говорят. Злой и встревоженный, он рисовал в своем воображении неприятную картину: вот косари окружили Татьяну, а она стоит и произносит речь, клянет на чем свет стоит Хворостянкина, ругает такими обидными словами, что он, думая об этом, засопел и схватил рукой кучера за плечо:
— Никита! Придержи коней.
— Ты это чего? — спросил Никита. — К ветру?
— Тебе сказано — останови! — Хворостянкин слез с тачанки. — Подожди меня тут, я зараз вернусь.
Осторожно переступая по колкой, недавно скошенной траве, Хворостянкин неслышно подкрался к копне с той стороны, где его не могли видеть. Сердце стучало так сильно, что казалось, его слышно было по ту сторону копны; лицо горело, в ушах стоял противный звон. Хворостянкин затаил дыхание, напрягал слух, стараясь уловить каждое слово, долетавшее к нему из-за копны.
— Допустим, Татьяна Николаевна, ты подвергаешь сильной критике… — послышался бас.
«Так, так, — думал Хворостянкин, — знать, уже откритиковала… А ну, что будет дальше… Это Игнат спрашивал. Он должон за меня заступиться…»
— Его надо не критиковать, а взять хворостину да хорошенько по тому голому месту, — послышался женский голос, и Хворостянкин не мог понять, кто из женщин это сказал.
«Ах ты, бесстыжая морда! — зло думал он. — Ишь, чертяка, уже берется за хворостину!.. Тут только дай бабам волю…»
После этого заговорили все сразу:
— Ты лишнее на себя не бери.
— Женщина правду сказала — побить бы тебя нужно за такое отношение.
— А за какой грех мне такая кара?
— За такой, чтоб жену жалел и уважал!
— Да я ее и так жалею и уважаю.
— А чего она частенько в слезах ходит?
— Потому и плачет, что пошел у нас разлад на почве личного непонимания.
— Какое ж у вас непонимание? — спросила Татьяна.
— Это, Татьяна Николаевна, долгий сказ.
— Ну, все же… Хоть в двух словах.
— В двух — могу… Я ей говорю: «Роди мне мальчонку, какая жизнь без детей», а она — ни в какую… Разве это жена?
— И через это ты ее на собрание не пускаешь?
— Да при чем тут собрание?
— А ты ее спрашивал, почему не хочет рожать?
Голоса в сторонке:
— Гордей, а послухай, здорово новая парторгша наседает на нашего Игната… И за что? За жену…
— До всего дознается.
— Беда!
— А чего ее спрашивать? — угрюмо проговорил Игнат. — И без расспроса знаю.
— Ну, скажи, скажи.
— Да что тут сказывать?
— Ага! Стыдно!
— Чего там стыдно!.. Случилось один раз, по пьянке.
— Бил?
— Да не-е-е… Руку поднял, за косу взял… так только постращал, а она у меня такая характерная, что с той поры и признавать меня не желает, и на почве детей пошел отказ…
— Это и с моим муженьком была такая история… Жили мы со своим Иваном душа в душу, а потом я стала замечать…
Тут Хворостянкин, усмехаясь в усы, тихонько приподнялся и пошел к тачанке. «Тьфу ты, черт знает о чем говорят, какие-то бабские истории!.. Секретарь партбюро — и такие разговоры, уму непостижимо!.. Придется сообщить Кондратьеву…»
Усевшись на тачанку, он сказал:
— Никита! К этой копне подлети птицей!
Тачанка свернула с дороги и с шумом подлетела к копне.
— Здорово булы, косари! — крикнул Хворостянкин, соскочив на землю. — Как идут дела? Сколько дали процентов на сегодня?
Подошел ближе, наклонился и увидел Татьяну.
— А! Татьяна Николаевна! Беседуешь? Политграмоту проводишь… Добре, добре… Только я не ожидал, не ожидал тебя тут увидеть!
Косари молчали, и только кто-то в сторонке негромко сказал:
— И прилетел же не вовремя! Тут зачался такой интересный разговор, а его принесла нелегкая…
Помню, и хорошо помню то время… Вижу степь под низким осенним небом. Лежит, куда только ни взгляни, обширная кубанская равнина, и плывут над ней рваные тучи так низко, что кое-где влажные клочья цепляются о блекло-серую стерню. Узкими поясками темнеет зябь, пасутся по ней, обычно стаями, нахохлившись, озябшие грачи — такие черные, что их видно только вблизи, издали же трудно отличить цвет пера от чернозема… И еще в этом необозримом просторе вижу трактор: он гуляет один, с песней, блестит новенькими шпорами, пугает птиц и степного зверя, смелый, порывистый и величественный — первый путиловец в степях Кубани! А на взгорье железная бочка, погнутая лейка, старенькое ведро с тавотом цвета топленого масла, балаганчик, солома, полушубок, и тут же вбит в землю колышек, на нем кусок фанеры и жирные, выведенные мазутом с подтеками слова: «Тракторная бригада № 1».
Номер первый… Как же далеко мы ушли и от того памятного взгорья и от того колышка, что маячил, как веха в будущее, вблизи дороги!.. Теперь и степь, та же самая кубанская степь, кажется уютней, и не такой просторной, и не такой сумрачной, какой мы знали ее раньше. Может быть, это произошло оттого, что вместо железной бочки, балаганчика и старенького ведра выстроились у дороги три домика на колесах и в каждый из них ведет, деревянная лесенка? Есть и поручни — вход в вагончик удобный, и у одного из них красуется вывеска: «Тракторный отряд Г. М. Мостового». И кто бы ни проезжал по дороге, непременно остановится, посмотрит, покачает головой и скажет: «Ах, канальские хлопцы, сами чумазые, как чертенята, а погляди ты на них — в жилье какую красоту навели!» И, разумеется, не красочная вывеска и не лесенка с поручнями привлекают взор и вызывают похвальные замечания — ко всему этому на Кубани давно привыкли. Внимание приезжих задерживалось на окопных занавесках: они были такие нежно-белые, что издали напоминали голубей, парующихся на подоконниках. Вот к этому простому украшению на окнах и не мог никто привыкнуть, ибо ни за что нельзя было поверить, чтобы в соседстве с трактористами, людьми, обычно испачканными маслом, керосином и грязью, могла уживаться такая белизна…
Однажды по своим торговым делам здесь проезжал Лев Ильич Рубцов-Емницкий. Остановился, посмотрел, задумался и сказал:
— Культурность! Это же, для ясности, спальные вагоны прямого сообщения!
Мы лишь присоединимся к авторитетному мнению Рубцова-Емницкого, но не станем осматривать все хозяйство Григория Мостового: оно и слишком большое, да и не всякому, надо полагать, интересно видеть, скажем, обыкновенные двухэтажные койки с матрацами, аккуратно, по-армейски, заправленные одеялами, с подушками, на которых лежат накидки, и кое-где коробки папирос, а то и вышитый монистом кисет с табаком; или, сказать, кому захочется осматривать такой предмет, как обеденный стол, длинный, покрытый клеенкой, со скамьями по бокам; шкаф с посудой и повариху, женщину пожилую, но в работе удивительно проворную; или же читальню — опять же шкаф, только не с посудой, а с книгами и с потертыми журналами; или механическую мастерскую с верстаком, тисками и небольшим токарным станком — все это теперь обыденно и всем знакомо…
Между тем есть в одном из вагонов и нечто такое, что не является обыденным и всем знакомым и куда непременно, хотя бы ради любопытства, следует заглянуть на несколько минут. Имеется в виду небольшая комната без окон, с дверью, обитой толстым войлоком… В углу мы видим стол под синим сукном, на котором установлен аппарат, похожий на чемодан. У стола, держа перед лицом, как зеркальце, кулачок микрофона, с надетыми наушниками сидит Григорий Мостовой, а рядом с ним — учетчик, он же радист, худой и долговязый паренек. К столу спущена электрическая лампочка, и свет от нее падает так, что лица юношей кажутся темными и необычно строгими.
— Включаю, — негромко говорит Григорий, глядя на часы. — Приготовь сводку.