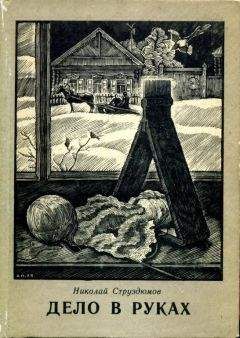Софья, убрав в укромное место инструменты, обсудив со своими девчатами дела и планы на завтрашний день, теперь переодевается в своем углу. Ее загораживают от мужских взглядов три молоденьких отделочницы.
Со времени инцидента у подъемника Софья ни единым словом не перекинулась со Славкой, даже ни разу на него не посмотрела. Теперь же, заметив возле него возню и шушуканье, она начинает подозрительно присматриваться в ту сторону. На лице ее обозначается недовольство, которое потом сменяется раздражением. Наконец, она не выдерживает и кричит через всю бытовку:
— Славка, ты что — опять на пьянку налаживаешься?
— На ее, проклятую, — отвечает вместо Славки Василий, сбрасывая карты.
— А куда?
Ей не отвечают.
— Там и девки будут?
— И д-девки будут, двадцать восемь очей — мой банк, — говорит Василий. — Но ты, Софья, не расстраивайся, они будут одетые.
В бытовке все громко смеются. Все, кроме молоденьких отделочниц, которые стоят возле Софьи и посматривают на нее.
Софья заканчивает переодевание, поправляет у пояса складки своей хоть и не новой, но еще добротной шубки, надевает внушительного вида очень лохматую меховую шапку. Потом подходит к сидящим, вырывает у Славки карты, бросает их чуть ли не в лицо Василию и говорит:
— Пойдем, Слава.
Все четверо сидящих от неожиданности застывают и молча смотрят на Софью. Она, видать, с трудом сдерживает то чувство или крик, которые просятся наружу, грудь ее волнуется, и волнуются складки меха на груди. В глазах скапливается гроза, вспыхивают синие молнии. Глаза эта широко и великолепно распахиваются.
— Пойдем, Слава, — говорит она, еле сдерживая себя.
— Да он кто тебе — муж, что ты с ним так… — ввязывается плотник Василий, который, кажется, не на шутку испугался, что компания будет разлажена.
— Сгинь, поганец, — бросает Софья Василию и опять оборачивается к Славке: — Слава, пойдем.
— Да ты мне… да я тебе… — весь так и взвивается плотник, аж чуть не задохнувшись.
Но Софья не обращает больше на него внимания. Она говорит с одним Славкой. Даже не говорит, а требует. И Славка — странное дело! — не смеется, не отмахивается от нее, как это могло бы быть еще вчера — нет, он вроде весь в смущении и нерешительности.
— Пойдем, Слава, пойдем, — упрашивает Софья, и в голосе ее уж слышится и мольба, и вроде жалоба на что-то. — Ну, хочешь, я тебе сама бутылку поставлю, только не ходи туда.
— Да брось ты! — кричит плотник.
— Да брось ты, на самом деле, я ж обещал, компания же!.. — кричит Славка, маскируя криком некоторую растерянность.
— Так пойдешь или нет? — говорит Софья, сверкая глазами.
— Не пойду, — вроде бы обиженно говорит Славка.
Софья резко поворачивается и идет к двери. И уж от порога кричит Славке:
— Черт с тобой, блуди, шляйся там! Сопьешься, дурак, кобель шелудивый, проблудишь всю свою жизнь — издыхать будешь никому не нужный, одеяло некому будет на ноги натянуть! — В глазах ее скапливается новая гроза, еще большей силы и ищет выхода. — У-у-у! — и Софья швыряет в Славку подвернувшуюся под руку терку.
Деревянная терка мала, легка, и Славка отмахивается от нее, как от мухи. Плотники смеются. А Софья с закипевшими на глазах слезами поворачивается, берет под (руку Колю Фролова и, приказавши: «Пойдем, Коля!» — направляется к выходу. Коля оглядывается и, пожав плечом, идет, увлекаемый Софьей.
Дверь захлопывается, и, чуть погодя, из-за нее доносятся всхлипывания, потом уговаривающие голоса отделочниц:
— Теть Сонь, ну, пожалуйста, не надо, он того не стоит.
Потом шаги удаляются и все затихает.
Славка смотрит на захлопнувшуюся дверь, смотрит на следы, оставленные подошвами красных Софьиных сапожек, словно намереваясь что-то прочесть на этих следах. Он вроде озабочен и хочет на чем-то сосредоточиться. Его мысли, летавшие до того легко и независимо друг от друга, как вольные птицы, теперь теснятся, сталкиваются, приходят в зацепление. Все это отражается сумрачностью и недовольством на безмятежном до того Славкином лбу.
Бытовка постепенно пустеет. Вскоре в ней остаются только четверо. Игра продолжается.
— Молодец, Славка, друзья важней всего, — говорит вдруг плотник Василий, словно кому-то возражая.
— А по мне, так тебе, старина, следовало бы ее догнать, — вдруг подает голос бородатый сотрудник.
— Вот еще, «догнать». Шел бы сам да догонял.
— Ну, я-то ей не нужен.
А сумерки между тем надвигаются плотней и настойчивей. Разлившаяся по бытовке синева все больше густеет, и воздух постепенно приобретает темно-фиолетовую окраску. Игроки уж с трудом различают карты, становятся все сосредоточеннее, головы их невольно сближаются и кажутся угрюмыми и настороженными, как у заговорщиков.
— Ни черта не видно, — говорит плотник Василий.
— Я — пас, — говорит Славка.
— Надо переноску приволочь, у нас там есть. Присоединим к проводу, который в коридоре, — и плотник встает.
— Не надо переноску, я — пас, — говорит Славка и тоже встает.
— Сейчас пас, потом будет выигрыш.
— Ты не понял: я вообще — пас, не буду играть.
— Эт еще чего?
Славка подходит к вешалке, снимает с гвоздя полушубок, начинает одеваться.
— Да ты куда?! — испуганно кричат оба плотника.
— Домой.
— Да брось ты. Играть будем. У нас компания же. Мы же все простецкие люди, чего ты-то из себя гнешь. Колька же Тимофеев приедет.
Славка застегивается.
И тут за окном начинают сигналить. Гудки звучат настойчиво и зло: длинный — два коротких, длинный — два коротких.
Плотники бегут переодеваться. Они весело переговариваются у вешалки. Сотрудник смотрит на Славку выжидающе. Тот подходит к двери и останавливается у порога с ключом в руке — ему надо закрыть бытовку. И молчит.
Плотники, переодеваясь, прямо-таки развеселились, то и дело пошучивают, обсуждают, куда же лучше идти — к девкам в общежитие или к Клавке, А Славка молчит. Он сумрачен, сосредоточен, стоит недвижно, с одеревенелым лицом. Нет больше веселого, улыбчивого Славки!
Он упорно молчит, стоит в выжидательной позе и держит ключ в чуть приподнятой руке. Ключ белеет в сумерках, как вознесенный предостерегающий и настораживающий перст.
Дверь затирается, и шаги уходящих удаляются в противоположный конец обширного гулкого коридора.
В бытовке устанавливается тишина. Бытовка постепенно остывает от шума, разговоров, ходьбы, беготни, неурядиц, от всех людских хлопот и забот.
БЕГСТВО В РОДИТЕЛЬСКИЙ ДОМ
Вот ведь случись беда, всем понятное несчастье — обязательно сочувствие выразят, хоть внешне, а выразят. И форму придумают — какое-нибудь соболезнование, и деньги соберут. И вручат с этакими скорбными лицами. Тот же солидный товарищ и вручит. Но это если бы явная беда. А тут ведь так… Грязь. Пакость. Трясина. И вот — нескрываемое равнодушие. Кроме тех двух сотрудниц. Но ведь их всего две. А еще хуже — любопытство. Этакое гаденькое, со слюнкой.
Да чего там, вон даже друзья не могут понять. Хоть тот же Владимир Николаевич. Они только что вдвоем стояли с пивом близ вон той крашеной будочки. Он попивал и с удовольствием оглядывал два кустика акации с облезлой скамейкой и прохожих. А Сизов был озабочен своим. И тут Владимир Николаевич, недовольный, видимо, тем, что его настроения не разделяют, сказал:
— Да не принимай ты близко к сердцу. Все это мелочи, — он даже поморщился. — Не обращай внимания.
Скажите, какая великая мудрость. Тебя тычут носом в грязь, ты изо всей силы упираешься, не хочешь, а тебя все же тычут — и не обращай внимания. Нет, дорогой Владимир Николаевич, не мудрость это, а дремучая глухота.
Он так ему и сказал, не допив, вернул кружку и ушел. Хотя они собирались вместе идти в одно место. Короче говоря, еще с одним поругался. Ладно, черт с ним, уж все одно к одному.
Но с Владимиром Николаевичем, действительно, — мелочь. Забудется. А вот там…
Все линии сошлись в одной точке после того заявления, вся житейская муть — и с квартирой, и с работой да и с Наташкой тоже. Они словно подкарауливали.
Он шел по мокрой, потемневшей от недавнего дождя улице и силился припомнить, с чего начиналась каждая из тех линий. Ну, хотя бы с работой.
А-а, вот, кажется, с чего. Явился сюда прямо из бесхитростной студенческой стихии. И сразу уж очень нетерпимо настроился ко многому, что здесь давно притерлось, улеглось и устоялось. И тиной затянулось. И высказывался, дурак, при ком попало, и разбрасывал хлесткие характеристики. В том числе и о том солидном товарище. Ему же, видать, передали. В общем, установились с ним натянутые отношения, а он имел немалый вес в конторе. Вот и появилась напряженность какая-то, и трудности начались даже там, где прежде все проходило по разряду пустяковых дел. А тут как раз подоспела эта история.