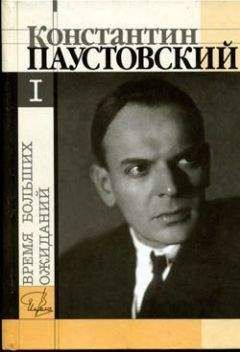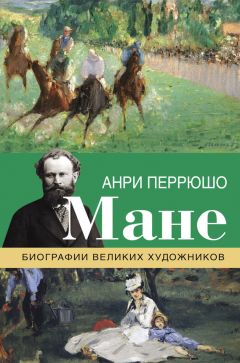— Кому? Уж не вам ли, попавшему в цейтнот?
— Не важно, мне или другому, — игнорируя жестокий намек, ответил Вадим, — важно, что прошло время ненаучных решений.
И он, не прощаясь, пошел к двери.
Поднялся и молчаливо сидевший до сих пор Стырне:
— А ведь вы правильно сказали, товарищ Вербин, почти правильно. Вопрос действительно вышел из нашей компетенции. Но из вашей тоже. Будет решать кто-нибудь повыше, и серьезно решать. Это я вам, как коммунист, обещаю.
В коридоре Стырне очень захотелось обнять Вадима. Но кругом сновали люди. И он только похлопал его по рукаву и сказал совсем буднично:
— Ты ведь не устроился еще с жильем? Поехали ко мне в гостиницу, может, для тебя номер схлопочем, там и пообедаем,
Сидя в тесно забитом вагоне метро, Вадим слушал, как ритмически хлопают, проглатывая пассажиров, двери, следил, как мелькают в темном тоннеле редкие огни. И думал, что все на самом деле идет нормально. Все минует на свете. Всему свой черед. Самое главное — как пройти по земле. Выше этого ничего нет. Пусть себе Вербин протирает галстуком стеклышки. Я бы с ним не поменялся. Нет. Эх, если бы не завтрашняя консультация у профессора, прямо сейчас можно было бы уехать в санаторий.
Гостиница, в которой жил Стырне, оказалась на редкость удобной и тихой. И все-таки никакой тишины не получилось. В номере Яна Зигмундовича, куда они зашли помыть руки перед обедом, сидели, ожидая хозяина, две женщины. Это были Дина и тетя Мирдза.
Вадим слегка побледнел. Да, мир тесен, и в больших городах, куда, как говорится, ведут все дороги, это особенно ощутимо. Трудно сейчас будет им обоим. Ведь с памятного симфоническою концерта они виделись только на людях и, кажется, не искали встреч.
Дина не очень растерялась. Она поцеловала в щеку отца, подала руку Вадиму и скромно уселась в сторонке, как бы подчеркивая случайность встречи. Зато тетя Мирдза откровенно обрадовалась, полноватое лицо ее под копной вьющихся, густых, совершенно белых волос засветилось живым интересом.
— Вот он каков, автор проекта «Большой Пантач»! — Она открыто и простодушно разглядывала его.
— Один из соавторов, — вежливо поправил Вадим.
— Разумеется, разумеется, — охотно согласилась тетя Мирдза, ценившая в людях скромность. — Разделить с товарищами честь открытия — вот настоящее благородство. И за Тюмень тоже, кажется, дали премию большой группе геологов.
— В этом отношении мы совершенно спокойны, Мирдза Зигмундовна, — Вадим усмехнулся. — «Большой Пантач» никогда не будет представлен на соискание.
— Почему?
— Рядовая работа. К тому же и не признанная еще.
— Ничего, признают, никуда не денутся, — сказал Стырне.
Они пообедали все четверо в скромном уютном ресторане внизу. Вернулись в номер. Беседа плохо клеилась.
Мужчины негромко толковали о том, как надо действовать дальше в борьбе за Большой Пантач. Стырне сказал, что со всем этим управится сам и что путевку Вадиму, в случае надобности, можно будет продлить и на третий срок. Мирдза вставляла отдельные словечки и все приглядывалась к Вадиму. А Дина печально думала, с какого сейчас конца подойти к нему.
Вероятно, Мирдза угадала ее состояние.
— Что ты там пригорюнилась, как покинутая невеста? — приходя ей на помощь, грубовато-ласково сказала она.
Дина приняла ее тон. Неожиданно для самой себя легко рассмеялась и беспечно сказала:
— А может, я и есть покинутая невеста!
— Что-то непохоже, — Мирдза взглядом похвалила племянницу, сумевшую ловко ухватить конец спасательного каната, и продолжала игру: — Займи, в самом деле, человека. Сходите куда-нибудь, это же Москва!
Дина поднялась и со свойственной ей свободой и простотой подошла к Вадиму:
— Пойдем, что ли? В самом деле, покажу Москву.
Против ожидания, Вадим охотно согласился и стал искать глазами ее белую, уже выходящую из моды, нейлоновую шубку. Мирдза облегченно вздохнула.
Побродив немного по старинным улочкам, которые она особенно любила, Дина повела Вадима в Музей изобразительных искусств на Волхонке.
Сначала они ходили по залам чуть поодаль друг от друга, и с лица Вадима не сходило выражение смущения. Постепенно, однако, он оживился, они уже старались не отставать друг от друга и в зале барбизонцев подолгу стояли перед одной и той же картиной.
Дина лучше Вадима разбиралась в живописи, и ей пришлось объяснить ему и общее значение барбизонцев, особенно наиболее выдающихся представителей этой школы — Теодора Руссо, Добиньи, Милле. Вадим смотрел теперь внимательно. За скромной, неяркой манерой письма угадывалось буйное благоухание лесов, тихая грусть убранных полей, обилие света и воздуха — радость людей, вырвавшихся из города на простор родной природы.
Вадима сейчас особенно волновали пейзажи. Он жадно смотрел на зеркальную гладь реки у Добиньи, на неяркий, кажется, такой знакомый закат… И волосы у Дины как будто тоже освещены сейчас закатом, а шея совсем детская… А эта крестьянка с широким лицом… На кого она так похожа?.. И перед глазами возникла поросшая ивняком лужайка, широко посаженные карие глаза, полураскрытый, смеющийся рот… Да, да, конечно, это Маша Осинцева, первая любовь… Ей было двадцать пять, а мне восемнадцать. Так и прошла мимо. Остались в памяти горячие карие глаза, а человек затерялся в жизни. Жива ли Машенька? У кого-нибудь, может, в запасе вечность, а у меня всего год, от силы полтора. Мне просто нужно решить главное — как прожить эти месяцы, эти немногие недели и дни? Чтоб остаться человеком, чтоб не слишком трусить.
Ему захотелось на воздух. Они вышли на Большой Каменный мост, взяли такси и поехали Замоскворечьем в сторону Ленинских гор. В Москве трудно найти уединенный уголок, но в этом громадном молодом парке, у здания университета, они нашли аллеи, по которым можно было ходить часами, не встретив ни единой живой души.
Дина и раньше любила бродить здесь после лекций по осенним дорожкам, густо усыпанным желтым листом. А сейчас пахло талым снегом и чем-то сухим, пыльным. Воробьи скакали по протоптанным дорожкам, топорща и чистя клювами серые перышки, прыгали по голым веткам дубков и придавали этому месту неприхотливый сельский вид. Может, где-то здесь Герцен и Огарев, обнявшись, глядя на далекую вечереющую Москву, давали когда-то свою пожизненную клятву…
Дина улыбнулась этой детской мысли. Они шли по аллее, протянувшейся к университету от Лужников, поглядывали на тянувшийся далеко-далеко по бокам ноздреватый снег. Потом взглянули друг на друга и улыбнулись. Дина прижалась щекой к его рукаву. Он положил большую тяжелую руку ей на плечи и слегка притянул к себе. Дина боялась шелохнуться. Задрав головы, они смотрели на высотное здание.
— На каком ты этаже? — спросил он.
Она растерянно заморгала.
— Семнадцатый. А что?
— Так. Высоко очень. Значит, лифтом ездите?
Они свернули на боковую аллею, присели на скамью. Встретились глазами, засмеялись. Ей показалось, что все прежнее вернулось, и плохое позади, как бы только неосторожным словом не разрушить эту близость…
— Наверно, ты поедешь после лечения руководителем работ на Пантаче, — сказала Дина.
— Руководителем? Зачем?
— Ты хозяин открытия — ты и доведешь его.
Он помолчал, печально и сумрачно глядя перед собой:
— Ни черта, Динок, из этого не выйдет,
— Выйдет.
— Ни черта ты не знаешь, Динок.
— Знаю, старик, — возразила она спокойно. — Все знаю.
Вадим внимательно посмотрел в ее лицо: сначала на губы, сказавшие эти слова, потом почему-то на шею, выступающую из ворота белого свитера, затем уже в глаза.
Она выдержала его взгляд, ничто в ней не дрогнуло. Он слегка сжал ее руки, и, когда она вся потянулась к нему, лицо его дернулось. Держа ее руки, он тихо сказал:
— Ты знаешь, что это произойдет очень скоро?
— Не скоро, — ответила она, — у Эйнштейна другой был счет.
— Эйнштейн, Эйнштейн! — невесело передразнил он.
— Глупый, — сказала она, опять прижимаясь щекой к его рукаву, — а еще бегал от меня.
— Я думал о тебе,
— Ей-богу, несовременно, милый. Оставим сентименты рыцарским временам. Беречь надо не меня, даже не себя, а минуты, мгновения. Понимаешь? Они уходят, а в каждом сколько дум, дел, чувств. А человек все равно не вечен. Одному дано больше, другому меньше, важно — как прожить.
Вадим вскинул на нее глаза. Как странно, только сегодня, несколько часов назад, он именно это сказал самому себе. Но то он…
— Можно и год прожить так, как другой не проживет и полсотни, — она подождала немного и договорила совсем тихо: — Если любишь — поймешь. И если нам осталось прожить четыре дня, мы проживем их вместе.
Вадим молчал, смотрел на нее. Он знал, что она искренна. Губы потрескались под краской, и так хочется поцеловать их и потом спрятать голову на груди, в ее белом пушистом свитере и немного отдохнуть от всего, от себя. Да, она искренна. А ты? Примешь, значит, ее жертву — и ладно? И в этом, стало быть, непротивленец? Хочется отдохнуть! Мало ли что хочется… И он сказал отчужденно, слегка отодвигаясь: