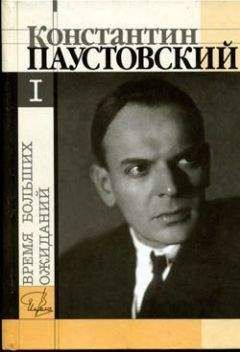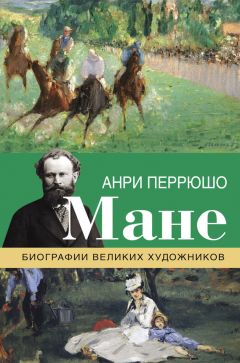— Значит, ты все знала, Дина?
— Знала. Мне профессор сказал. Только не знала — догадываешься ли ты об этом.
— Что ж, разве профессор приговорил обоих?
— Я сама. Это мое право. Разве мало примеров?
— Перестань! Сама понимаешь, что это чушь.
— Ну не надо, Вадим, родной, ничего не надо говорить. Я люблю тебя.
— Динка, уйди!
— Поцелуй меня, Вадим.
Он молча глядел на нее, потом взял за плечи, притянул к себе. Кровь гулко стучала в висках… А есть ли вообще эта болезнь? Может быть, вся моя честность — всего-навсего только эгоизм, только больные капризы, а главное — это сама жизнь? Были два прекрасных мира — мир Вишну и мир Шивы, и люди с радостью переходили из одного мира в другой. Потом Брахма поставил на мосту перехода божество уродства и страха — и люди стали бояться. Не надо бояться! Это и есть главное… Красивая легенда, ничего не скажешь. Но в жизни все гораздо сложнее, горше.
Он сжал ее руку, осторожно расправил тонкие замерзшие пальцы. Отвернулся. Лицо его стало спокойным, только рука теребила пуговицу на пальто. Она оборвалась. Он глянул на оторванную пуговицу, машинально сунул в карман:
— Ну, хватит, — сказал он устало. — Надоело, знаешь, притворяться. Мы — не дети. Я просто хотел уйти от тебя. Может, нашел не очень ловкий ход. Извини. И никаких камушков я, конечно, не глотал. Получилось немного жестоко… Прощай!
Вадим встал и пошел. Под ногами был песок пополам со снегом и мелкие камешки, и он шел все быстрее, не оглядываясь. Замерзшие в меховых башмаках ноги были как деревянные. «У нее тоже, наверное, окоченели», — подумал он. И боялся, что не выдержит и вернется.
Он начал задыхаться от быстрой ходьбы и почувствовал острое колотье в боку. Значит, нельзя так быстро ходить. Что ж, все идет нормально. Все верно. Она подумает и простит. Пройдет время — и она сама все поймет.
А Дина сидела и молчала. Она даже не повернула головы. Посыпался снег. Очертания университета стали расплываться у нее в глазах, хотя она могла поклясться, что сейчас не плакала.
В этот же вечер, не дожидаясь консультации у профессора, Вадим уехал в санаторий.
Не спится по утрам. Хотя бы и набегался накануне, намаялся и поздно лег спать, а все равно не спится. Видно, годы берут свое. Около шести утра, когда едва заглядывает сквозь неплотно задернутую штору зимнее утро, глаза сами собой открываются, потом, сколько ни жмурься, сколько ни ворочайся с боку на бок, все равно не уснуть. В тебя уже вошло утро, вошло беспокойство жизни. Ворочаешься, ворочаешься на постели, ведь так еще рано. И тогда тебя начинают постепенно обступать утренние голоса. Так бывает в летнем лесу на утренней заре, когда поднимается ветер: забьется пуще обычного зябкая осина, пробудятся береза и ясень, зашелестит резным листом могучий развесистый дуб. И вот уже шумит на разные голоса, качается лес. Тихие, тонкие, назойливые, как комариный звон, возникают утренние голоса, и когда кругом тишина, звон этот может оглушить, как набат. Вот и сейчас в полусне Яну Зигмундовичу кажется, что звучит набат.
Так было ранней весной двадцатого, когда наступала панская Польша и в Кремле не было ни дров, ни угля, ни керосина. Третий день не топили в квартире Стырне.
Укутав больную сестренку во все теплое, что только могло подвернуться под руку, Яник усадил ее на кровать. Забросил потрепанный учебник за сундук, на котором сидел, и принялся ножичком старательно ошкуривать ивовую рогулину: держись теперь, кремлевские воробьи!
— К маме хочу-у…
— Сколько тебе говорить: в больницу маленьким нельзя! — строго прикрикнул брат. За окном послышались частые удары колокола. Мальчик с деланным испугом втянул голову в плечи: — Слышишь? Это за плаксами.
Девчурка притихла. Гул набата просачивался сквозь залепленные газетными полосками щели в окне, сквозь обитую войлоком дверь. Не выдержало мальчишечье сердце: нахлобучил на голову буденовку с выцветшей красной звездой, строго наказал Мирдзе никуда не отлучаться и, на ходу натягивая перешитое с чужого плеча пальтишко, выскочил во двор.
Горел новенький флигель за патриаршим домом. Там находился продсклад, у которого сотрудники Кремля и их домочадцы по пятницам выстраивались в длинные очереди за чечевицей и пайком черствого ржаного хлеба. Сейчас над флигельком густо валил черный дым, полыхали в вечереющем небе языки пламени. Прогромыхали по булыжной мостовой на взмыленных конях пожарники, расплескивая из полных бочек воду. А над Кремлем плыл, сея тревогу, призывный, прерывистый гул набата, и люди с ведрами и баграми отовсюду бежали в сторону зарева.
— Багры, багры, давай! Вали соседний сруб!
Десятки людей — пожарников, бойцов охраны, сотрудников кремлевских учреждений и просто обывателей из окрестных улиц — растаскивали строения, передавали цепочкой воду. Блики пламени плясали на древних зубчатых стенах. Летели вверх снопы искр. Остро пахло гарью и сырым древесным углем. Размеренно чавкали насосы, гоня из бочек воду. Тугие струи брандспойтов наотмашь били пламя, но оно лезло из других щелей, вырывалось языками, вставало над дымящимися развалинами колеблющимся высоким столбом.
— Ты что тут делаешь? — Багровое от пожара лицо папы Зигмунда лоснится потом, не снимая рук с рычагов насоса, он строго сдвигает широкие густые брови. — А ну, Яник, марш домой!
— Не пойду. Дома холодно.
Яник стоит, упрямо наклонив буденовку, и зачарованно глядит на бушующее пламя. Он не сразу замечает, кто в паре с папой Зигмундом качает воду. Это Ленин в шапке и коротком черном пальто. Лицо у него спокойное. Он работает как все, иногда смахивает рукой с могучего лба бисеринки пота. Насос за неимением воды затихает, Ленин подходит к Стырне-младшему, здоровается за руку и говорит, скрывая в прищуре улыбку:
— Погреться, Яник, на пожар пришел?
Яник не знает, что ответить. А огонь уже пошел на убыль. Шипят, обугливаясь, головешки, пахнет горелым хлебом.
— Вот и поужинали, — мрачно шутит кто-то.
— Ничего, затянем ремень потуже. Нас не испугаешь.
Люди понемногу начинают расходиться. Где-то далеко послышались звуки гармоники, и высокий девичий голос затянул в расходящейся толпе частушку.
Мама чаю налила
Из голубого чайника,
Выйду замуж только я
За гепеу начальника.
Уходят и они с отцом. И пока идут, пока отец растапливает печурку собранными на пожарище обгорелыми щепками, набат все гудит…
А иногда утренние голоса шелестят однообразно, как осенний дождь. Уныло сыплет он за окном, нудно стучит о крыши и водосточные трубы, шуршит наполовину облетевшими уже осинками в саду — и все это сливается в надоедливый, скучный шум осеннего угасания.
На этом фоне возникают вдалеке то курлыканье улетающих журавлей, то веселая перекличка спешащих в школу ребятишек. А сейчас больше не уснуть: неотступно стоит перед глазами весьма неприятная картина последней трудной встречи с Вербиным.
От Большого Харитоньевского до центра не такой уж длинный конец, но все-таки выехали они с вернувшимся из Ленинграда Виктором Степановичем заранее. У Виктора Степановича были и свои дела в министерстве, но главное — он вызвался ехать вместе в качестве «костыля», чтобы помочь с Большим Пантачом. Как управляющий крупным шахтостроительным трестом, он был вполне осведомлен о деле. «Если уж тут не получится, пойдем в ЦК», — сказал он.
Сухощавый крепкий человек лет сорока семи с холодноватыми острыми глазами встретил их у порога кабинета. Это был заместитель министра, один из опытнейших геологов страны.
— Ну, что там у вас, товарищи, проходите, садитесь, — он поздоровался и прошел к своему месту.
— Разрешите мне, Иван Лаврентьевич, — усаживаясь, сказал Виктор Степанович.
Тот глянул на него, задержался немного глазами на лице Стырне, которого видел впервые, и кивнул.
Виктор Степанович изложил историю месторождения, отметил, что Сырцов искал и нашел фосфориты, отклонившись на свой страх и риск от плановых маршрутов, подчеркнул, что Стырне недавно, но радикально изменил свою позицию, а Вербин продолжает упорствовать и замораживает дальнейшее развитие дела.
— Чего же вы ждете сейчас от министерства? — коротко спросил Иван Лаврентьевич.
— Как чего, — простодушно удивился Виктор Степанович, — финансировать-то будете вы, министерство!
Иван Лаврентьевич только усмехнулся, как бы говоря: ну, до этого еще далеко! Он взял со стола плоский некрашеный карандаш, каким краснодеревщики расчерчивают заготовку, покрутил его в пальцах и сказал также коротко:
— Продолжайте, пожалуйста.
Виктор Степанович рассказал еще о высоком содержании в руде фосфорного ангидрида, добавил несколько подробностей и умолк.