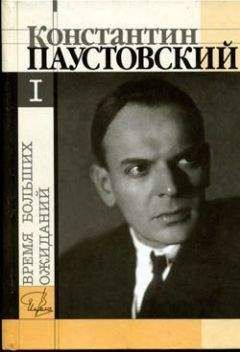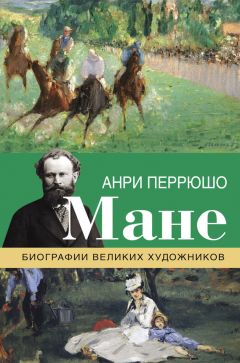— Как чего, — простодушно удивился Виктор Степанович, — финансировать-то будете вы, министерство!
Иван Лаврентьевич только усмехнулся, как бы говоря: ну, до этого еще далеко! Он взял со стола плоский некрашеный карандаш, каким краснодеревщики расчерчивают заготовку, покрутил его в пальцах и сказал также коротко:
— Продолжайте, пожалуйста.
Виктор Степанович рассказал еще о высоком содержании в руде фосфорного ангидрида, добавил несколько подробностей и умолк.
В разговор вступил Вербин. На этот раз линия поведения его была продумана детально. Он сидел до сих пор молча — скромный, сдержанный. И сейчас вступил в разговор, — это отчетливо читалось на его лице, — с единственной целью установить истину. С грустью, даже с дружеским участием говорил он об ошибках Стырне, о его неустойчивости. Да, именно неустойчивости — в этом, видимо, все дело. Сначала Стырне упорнейшим образом отрицал возможность нахождения фосфоритов в тайге, а ведь это очевидная ограниченность кругозора, чтобы не сказать — отсталость…
— Верно, товарищ Вербин, — негромко перебил его Стырне, — ограниченность и отсталость.
— Что же, покаянные речи будем произносить? — протянул Иван Лаврентьевич.
Стырне отрицательно покачал головой.
Вербин, почуяв в реплике Ивана Лаврентьевича поддержку, стал аргументировать еще более активно, даже немного сбился с принятого тона. Уже не без ядовитости говорил он, что Стырне теперь шарахнулся в противоположную крайность и с упорством, достойным лучшего применения, требует апробации проекта, еще совершенно сырого и непроверенного.
Все время, пока говорил Вербин, Иван Лаврентьевич сидел неподвижно и не произносил больше ни слова. Видимо, он вообще умел долго слушать. Только всматривался незаметно в лица собеседников, как бы стараясь проникнуть дальше слов, глубже внешнего. Что-то отмечал, взвешивал. И только иногда в глазах пробегала усмешка.
Наблюдать за его лицом было интересно. Стырне сначала наблюдал, потом позабыл об этом, вообще позабыл на какие-то минуты о Большом Пантаче. Его поразила новая мысль. Следя за искусной игрой Вербина, он думал сейчас, что перед ним не что иное, как явление конкреции, когда постороннее тело обрастает минеральными веществами и образует камень-окатыш, очень похожий на дельный минерал.
Неожиданно для себя он сказал это прямо в лицо заканчивавшему блестящую речь Вербину:
— А ведь вы — окатыш, да-да, камень-окатыш, собственно говоря, в нашем деле — обманка, чужеродное тело!
— Я прошу… — вскричал ошарашенный Вербин.
Иван Лаврентьевич мельком глянул на него, опять с откровенным интересом задержался глазами на лице Стырне и не слишком грозно постучал своим плоским карандашом.
В душе Стырне вдруг загудел кремлевский набат. Это было давнее детское впечатление, оно прошло с ним через всю жизнь, стало частью его самого, пожалуй, его совестью. Иногда он забывал о нем, порой под тяжестью жизненных обстоятельств оно как бы притухало, но в критические минуты жизни, когда бывало особенно тяжело, — набат снова гудел в его душе.
Он услышал его сейчас и сказал безбоязненно, твердо, обращаясь прямо к Ивану Лаврентьевичу:
— Хотим повторить прежние ошибки, товарищи?
Вербин беспокойно крутнулся в своем кресле. Иван Лаврентьевич выжидательно смотрел на Стырне внимательными холодноватыми глазами.
Повернувшись к карте, он яростно поскреб в затылке:
— Ну-ка, товарищ Стырне, где этот ваш Большой Пантач? Показывайте! Докладывайте подробно…
— Стой, папка! Дальше можешь не рассказывать, — узкая рука Дины прикрыла рот Яну Зигмундовичу, и он, невольно улыбнувшись, замолчал. Она рукой почувствовала эту улыбку и, близко глядя ему в глаза, улыбнулась тоже, — я все поняла, папка. Вопросы можно?
— Пожалуйста.
— Кого назначили руководителем титула?
— Предлагали мне, — теперь он внимательно взглянул на дочь, — но я рекомендовал другую кандидатуру.
— Чью?
— Сырцова.
Дина помолчала.
— Я так и знала, что ты это скажешь, — с некоторым усилием выговорила она. — Что ж, хорошо… правильно, — и отошла к окну.
Отец долго ждал, чтобы она сказала еще что-нибудь. Но она не говорила, ни о чем не просила, ни на что не жаловалась. Стояла лицом к окну и смотрела на улицу. Сквозь замерзшие стекла почти ничего не было видно, но она все-таки смотрела. «Значит, болит у нее и не заживает», — с глубокой горечью подумал отец.
Больше всего на свете он любил дочь. Они давно научились почти без слов понимать друг друга. Это началось еще с тех времен, когда большеглазая девочка со сбившимся набок пионерским галстуком настойчиво спрашивала отца о Вселенной, о переселении душ, — обо всем, что острым умом подростка схватывала со страниц старых и новых книг, которых было множество в доме.
На правах раз навсегда установленного в их отношениях равенства они честно делили все — кому идти на рынок, кому мыть посуду, снисходительно выслушивали сентенции матери, по очереди дежурили у ее постели, когда болела. Приучившись к самостоятельности, Дина вступала в жизнь волевой, энергичной девушкой, свободной от предрассудков.
Да, все это так. А вот места своего в жизни все еще не нашла. Будет ей еще трудно. Она ведь не из тех, кто довольствуется малым.
— А в Каргинске большое несчастье, папа, — все продолжая стоять к нему спиной, сказала Дина, — ты слышал про смерть Зойки?
— Слышал… Мама говорила по телефону.
Они опять помолчали.
— Спокойной ночи, папка, — отрываясь наконец от окна, сказала Дина. И, как бы подводя итог мыслям обоих, добавила: — Как трудно быть самим собой. А надо.
В конечном счете Ильза Генриховна не просчиталась: она действительно переезжает в столицу!
В последнее время ей уже надоело отмахиваться от расспросов о переезде. А теперь, едва скрывая торжество, она небрежно говорила:
— Да, да, все решено. Едем на днях.
Наконец-то она избавится от капризов местного горгаза, неделями не привозящего баллонов; не будет носиться по двору с мусорным ведром; не станет трястись над каждым яблоком или грушей. В общем, в жизни Ильзы наступали волнующие перемены. Она опасалась только одного: найдет ли в Москве работу? Там ведь педагогов по вокалу — хоть пруд пруди, а она не могла обходиться без учеников и учениц… «На худой конец буду давать домашние уроки, а там видно будет, на месте всегда виднее», — решила она.
Без сожаления расставалась она с городом, где прошли лучшие ее годы, где она родила и вырастила дочку, где выучила пению десятки одаренных людей. И она с легким сердцем укладывала и увязывала вещи, наносила прощальные визиты. Посидев положенное время, уже натягивая перчатки, непременно повторяла:
— Да-да, едем на днях. Есть решение Совмина…
Ей непременно хотелось подчеркнуть, что переезжают они не как-нибудь, а по решению правительства.
Собственно говоря, это была почти правда.
Наряду со многими перестройками в народном хозяйстве произошла перестройка и у геологов. Вновь созданное Министерство геологии стало единым штабом разведчиков земных недр.
Через несколько дней, после того как решен был у замминистра вопрос о Большом Пантаче, в номере Стырне утром раздался звонок. Его вызывали в министерство.
Через час он снова сидел в кабинете Ивана Лаврентьевича. На этот раз они были одни, и Ян Зигмундович почему-то почувствовал себя удивительно свободно. Оказывается, Иван Лаврентьевич обладал острым чувством юмора, даже был смешлив, пожалуй. Разговаривать с ним сегодня было легко. Он живо расспрашивал о том, как Стырне работалось все эти годы на Востоке, потом без всяких переходов предложил вернуться в Москву, — принять объединенный главк.
Это было так неожиданно, что Стырне растерялся:
— Там же Вербин… как я с ним…
Глаза Ивана Лаврентьевича стали острыми и холодными, он сухо сказал:
— Вербина в главке больше не будет. — Помолчал и добавил просто и доверительно: — Мы вам предлагаем эту работу.
Стырне все еще не мог собраться с мыслями. Объединенный главк, да еще с производственным уклоном… это же отвечать за все, что по ту сторону Урала… Нет, не потяну. Нет… Он так и сказал:
— Благодарю за доверие. Только не потяну, не сумею.
— А все-таки подумайте, — настойчиво повторил Иван Лаврентьевич и опять пристально вгляделся в лицо Стырне, словно взвешивая что-то по-своему.
Стырне сидел молча. Иван Лаврентьевич как бы забыл о нем. Сняв телефонную трубку, он долго слушал, поматывая головой, потом принялся кого-то отчитывать… Вот так и за меня примется, если соглашусь и чего-нибудь напортачу. Стелет-то мягко, да каково спать будет? Впрочем, спать-то как раз и не придется. Надо наверстывать упущенное.