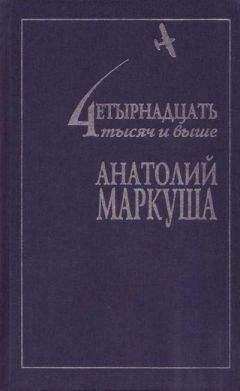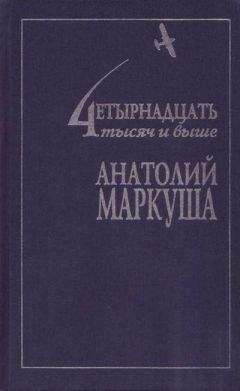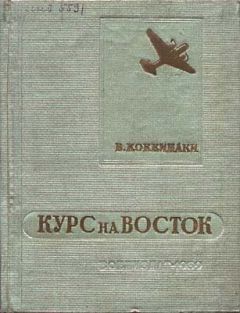Начлет, подсунувший мне капитана, был в отпуске. Замещал его Лебедев. Какой у них получился разговор, не знаю, только вскоре капитан от нас убыл.
Слыхал, работает в военной приемке на заводе. Вроде с успехом. Доволен он, им тоже все довольны.
Много позже Лебедев подковырнул меня:
— Слабак ты, малый. Такого муравьишку не рассмотрел, стихи перед ним метать стал, словами хотел воздействовать… Его надо было на второй день гнать… — И Лебедев передразнил меня: — «Душа обязана трудиться…» Сначала надо, чтобы она была, эта душа!
У меня всегда была странная память — нужное для дела, или хорошей отметки, или в каких-то моих личных интересах запоминаю с усилием, со скрипом, медленно, порой мучительно, а что не имеет никакой цены — проходной пустяк, сущую мелочь, голова схватывает моментально и хранит бессрочно.
В далекой молодости возвращался я из Клина домой. Поезд был обшарпанный — и недальний и не пригородный, составленный из коротких, трясучих, продуваемых ветром вагонов. Полки громоздились одна над другой, отвратительно воняло дезинфекцией, и ко всему вагон освещался тусклыми свечками, вставленными в закопченные фонари — над каждой дверью по одному, а всего два.
В отделении, где я сидел, затиснутый в угол, было еще человек десять или двенадцать. Почти все спали. Только трое горячо спорили, касаясь материй высоты необычайной — о предназначении человеческой личности… о смысле существования… о вероятной встрече с марсианами (тогда еще жила вера в существование марсиан).
Этот жаркий спор раздражал меня. Какого черта шуметь и мусорить словами, думал я, в конце концов, предполагать можно все что угодно, но раз ничегошеньки невозможно доказать, какой смысл волноваться?
Мне очень хотелось не слышать чужого спора. Но в ту пору я обладал кошачьим слухом и совершенно не умел выключаться. А уйти, оторваться от спорщиков не представлялось возможным. Короче, меня хватило только на то, чтобы не влезть в чужой разговор. Главный спорщик по природе своей был бодрячок и затейник.
Другой — скептик. И наконец, третий, как и полагается в подобной ситуации, — махровый пессимист.
За давностью лет не стану восстанавливать содержание вагонного спора и повторять бессмысленные, на мой взгляд, словоизвержения, хотя хорошо помню ход баталии, специфические словечки и нервную дрожь голосов. Приведу только одну реплику:
— А про динозавров слыхали, мыслители?! Отлично! Тогда вопрос: какая особенность? Как у кого… ясно — у динозавров? Молчите? Отлично, мыслители! Габарит — во! А головка — смотреть не на что! Потому динозавры и вымерли раньше времени, что ушли в тело, в массу… И мы вымрем, если перестанем расти в голову…
Давно отстучали колеса на пути от Клина к дому. Сколько с тех пор пережито и перевидано, сколько навсегда утрачено — не перечислить. И надо же, а динозавры время от времени все снятся. Громадные, невообразимо тяжелые, едва-едва переставляя ноги и волоча за собой хвосты, напоминающие что угодно, только не хвосты, уходят мои динозавры от воды. Уходят, сами того не подозревая, умирать.
Всегда на следующее утро я просыпаюсь с отвратительным вкусом во рту, в плохом, угрюмом настроении. И точно знаю: в этот день лучше ни за что серьезное не браться, все будет валиться из рук.
Говорил уже — в принципе я не суеверный: не отплевываюсь, не стучу по деревяшке, не хватаюсь за пуговицу, не избегаю черных кошек и тринадцатых чисел. Но этого сна — с динозаврами — не люблю.
Ночью накануне они мне приснились. Они шли гуськом, и закатное малиновое солнце высвечивало громадные, как горы, их тела, стирая детали, но удивительно точно воспроизводя контур. Точно так, как это делают мастера, вырезающие черные портретные профили. И странная мелодия сопровождала это угрюмо-торжественное шествие. Будто на невидимом органе исполняли реквием.
Утром на аэродроме ведущий инженер сказал:
— Эти идиоты из Васильевской службы перепутали концы.
— И?
— И вывели из строя электросистему, весьма капитально.
В ближайшие дни при такой ситуации думать о полетах не приходилось. Разбираться с «идиотами» не входило в круг моих служебных обязанностей. И я решил не без тайного удовольствия: раз так, поеду на пляж. Настроение с утра одолевало паршивое, вот и рвану к реке. Там уединение, песок… легкий ветер… чистая совесть… Поваляюсь на берегу, позагораю, и ночные видения выветрятся, утренние неприятности отойдут.
Река оказалась на месте. Река текла в своих берегах. И солнце грело сквозь тонкую облачную пелену, не утомляя. Ветер тоже оказался что надо — воздух струился, а песок лежал смирно.
Чего еще можно было желать?
Раздевшись, вытянулся на песке и сказал себе: «Спокойно, к черту подробности; все проходит, пройдет и это!»
Мне было хорошо. Огорчения оседали, как чаинки в стакане, — медленно, но верно.
И тут…
Они шли к воде медленно, переставляя гипертрофированные, неохватные ноги, покачивая жирными бедрами. Их было три. И над карикатурными этими фигурами возвышались обтянутые яркой резиной купальных шапочек маленькие яйцеобразные головки — две оранжевые, одна ядовито-зеленая. И следом за женщинами по чистому белому песку волочились их тени, напоминавшие гигантские, безобразные хвосты.
Это была злая пародия на вымерших динозавров.
Женщины вошли в воду. Как и следовало ожидать, плавать они не умели. Но их это не смущало. Довольствуясь шестидесятисантиметровой глубиной, в трех шагах от берега они окунали и тут же выдергивали свои телеса из желтоватой теплой реки. И визжали, победно озираясь.
Женщины были довольны собой. Они не испытывали ни тени смущения, просто не понимали, вероятно, сколь безобразны их фигуры, сколь недостойны они облика человеческого…
С пляжа я ушел, не обмакнувший, в реке. И началось: иду, еду, сижу и почти бессознательно отмечаю: «Толстая, толстая, очень толстая…»
Этот кошмар преследовал меня неотступно. Оказывается, толстых и сверхтолстых вокруг гораздо больше, чем худых и, так сказать, нормальных.
Смотрю. Считаю. И думаю: так, может, был прав тот спорщик в клинском поезде? Может, и впрямь мы вступили на тропу динозавров?
Наверное, вам известно — Маяковский писал: «…тот, кто постоянно ясен, тот, по-моему, просто глуп». Пусть эти слова классика хотя бы немного извинят мою меланхолию. Вот было, случилось, и не хочу скрывать.
От наблюдений и подсчетов я впал было в такую тоску, хоть караул кричи.
Спас меня третьеразрядный стадиончик, затерявшийся, как ни странно, почти в самом центре города, сюда с утра и до позднего вечера приходит заниматься в спортивных секциях школьная ребятня.
Забрел я туда совершенно случайно — хотел отдохнуть от уличного шума, от асфальтовой духотищи, от беспрестанного мелькания жирных, потных туш с головками уменьшенного габарита. А тут вижу — оазис! И свернул.
Вошел на стадиончик, гляжу — бегут. Юноши легкие и прекрасные, словно изваянные Роденом; девушки грациозные, будто антилопы. В каждую и во всех сразу хочется влюбиться.
На том крошечном стадиончике господствовал свой молодой мир. Он, этот мир, внушал надежду. Пожалуй, люди еще смогут продержаться на поверхности нашей планеты, если только мы научимся видеть себя — не такими, какими нам хочется, а такими, какие мы есть.
В совсем-совсем еще раннем детстве был у меня старый, изрядно обтрепанный, почему-то горчичного цвета игрушечный медведь. В отличие от большинства плюшевых собратьев мой стоял на четырех мощных лапах, и в пузе у него было спрятано секретное кольцо — потянешь, мишка ревет и открывает пасть… Игрушка досталась по наследству, кажется, от дочери дяди Саши.
Этого мишку я помнил столько, сколько себя.
Любил? Затрудняюсь сказать: игрушки никогда особенно меня не увлекали, другое дело — инструменты. Но привык я к своему горчичного цвета зверю, привязался крепко. Как-никак он был молчаливым свидетелем моих многочисленных болезней, стаивал со мной вместе в углу, все мои друзья-приятели не переставали удивляться мишкиной способности реветь и разевать пасть. Словом, облезлый, замученный, существовавший в доме с нэповских времен зверь сделался частичкой моей жизни, хотя чаще всего я не вспоминал о медведе. Тем более в войну не до того было.
Но…
Случилось счастье — необыкновенное, невыразимое — залететь домой, к маме, пусть на какой-то час!
С аэродрома я ринулся очертя голову в город, воображая по дороге, как обрадуется, как заплачет мама, как она кинется мне навстречу. Три с половиной года мы не виделись.
Я несся домой, сжимая в потной ладони, словно какой-нибудь первоклашка, пронесенный через все передряги войны мой персональный ключ от квартиры. И адски волновался: а вдруг дома сменили замок?