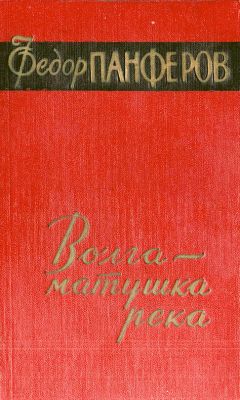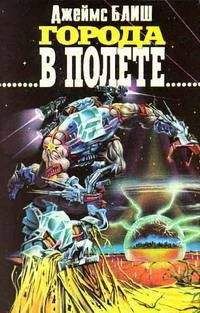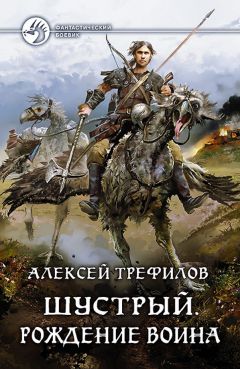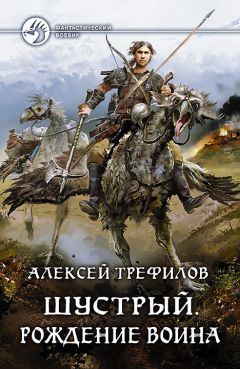— Почему по радио?
— А там проще: не хочешь слушать, выключи приемник. Все-таки что вы грустите, Аким Петрович?
— Не грущу. Нет. Хуже. Вот вы говорите — разум области, двести-то человек. Разум ли те, кто выступал с трибуны?
— То жучки. Жучки, дорогой мой. Страшные люди: любого подточат, только поддайся. Есть такой древесный жучок. Построили дом и не заметили, как в стену положили бревно, зараженное жучками… и, глядишь, через несколько лет дом рушится: все бревна жучки проточили.
— Чуете, как страшно? А говорите, чего я грущу? Тут не грустить надо.
— Э! Милый. Завтра жучков соляной кислотой будут поливать. Вот услышите. Выступит Ларин и из шланга соляной кислотой обольет их. Или тот же Кораблев. Да и секретари райкомов выступят. А вы намереваетесь промолчать?
— Наверное, промолчу. Хотя сказать мне есть что. Но если сказать открыто, значит стать в оппозицию к Малинову, — как бы рассуждая сам с собой, проговорил Аким Морев. — В оппозицию с первого же дня? А ведь мне с ним надо работать в обкоме. Если выступления, как вы их назвали, жучков — дело его рук, стало быть, он низменный человек, способный клевету превратить в политику?
— Такой, — подтвердил академик.
— А говорите — выступай.
— Я бы выступил.
— Что же вы?
— Не мастер: обругаю, а надо — дипломатично.
— Над этим я и размышляю, — проговорил Аким Морев и подумал:
«Хорошо работать, когда отношения у людей открыты, ясны. Ну, что же, послушаю завтра ораторов, а вечером, возможно, и выступлю».
Наутро к десяти часам они отправились в обком партии.
Накануне Акиму Мореву казалось, что пленум резко поредеет, во всяком случае гости не явятся, а тут, еще в раздевалке, он заметил, что люди идут гурьбой и лица у всех сурово напряжены, как они бывают напряжены у солдат перед боем.
«Значит, быть буре», — решил он, входя в зал, видя, как за столом президиума Малинов о чем-то уговаривает Пухова, показывая на председательское кресло. Но Пухов что-то сердито выкрикнул и, сев у края стола, отвернулся. Тогда Малинов обратился к Опарину, и тот, пересев в председательское кресло, объявил, что работа пленума продолжается и что слово имеет секретарь Нижнедонского райкома партии Астафьев.
В области, да и не только в области, но и во всей стране знали Астафьева как передового агронома, который лет двадцать тому назад появился в Нижнедонском районе и тогда же при помощи колхозников и машинно-тракторной станции заложил травопольную систему земледелия, разработанную талантливым учеником Докучаева и Костычева — академиком: Вильямсом.
— Мой ученик и верный друг, — слегка ткнув Акима Морева в бок большим пальцем, проговорил Иван Евдокимович, кивая на Астафьева.
Идя к сцене, Астафьев чуть-чуть прихрамывал. Поднявшись на трибуну, он посмотрел в зал, на ярусы. Лицо у него в густом загаре, волосы и брови выцвели, как выцвела и когда-то синяя гимнастерка. Всем казалось, он сейчас, как не раз бывало на пленумах, заговорит о том же: «Пора! Пора опыт Нижнедонского района перенести в другие районы», — а он начал довольно тихо и совсем о другом, чего ни Малинов, ни Сухожилин не ждали.
— Вам, товарищи, известно, что Нижнедонская станица — почти город, — заговорил он, окидывая взглядом членов пленума и гостей. — Года полтора назад в связи с образованием Цимлянского моря население, живущее на дне котлована, спускающегося к Дону, пришлось переселить на бугры, выше, потому что котлован будет затоплен. Каждому переселенцу советская власть отпустила шесть — восемь тысяч рублей на перенос и ремонт хозяйства. Правительство в своем постановлении указало, что надо построить водопровод, провести электричество, станицу сделать гораздо лучше, нежели она была. Но наш обком партии во глазе… с товарищем Малиновым действует под лозунгом: «Гром победы, раздавайся, веселися, весь народ».
Послышались аплодисменты, хохот, но когда в зале стихло, Астафьев, вместо того чтобы возрадоваться, как поступают иные, с грустью продолжал:
— Не аплодировать надо, товарищи, а горевать. Жителей Нижнедонской станицы переселили на бугры и не дают им воды. Вдали, два-три километра, виднеется Дон, а в станице вода — рубль ведро.
— Колхозники — народ зажиточный: рубль отдать за ведро воды — пустячок, — прокричал Сухожилин, и его воловьи глаза заблестели под стеклышками пенсне, как бы говоря: «Видите, как я его осадил?»
— Чудак! Простите, товарищ Сухожилин, хотя у нас таких витающих в облаках называют чудаками, — снова заговорил Астафьев. — Если бы колхознику на весь день потребовалось ведро воды, я не говорил бы здесь об этом. А ему надо хату оштукатурить изнутри, снаружи, обмазать глиной цоколь, дровяник, хлев для коровы, поросенка, для кур. На все это ему нужно тысячи две ведер. Две тысячи рублей из шести, выданных государством на переселение, он должен отдать спекулянту водой. Мы несколько раз обращались по поводу водопровода к Малинову. Но у меня впечатление такое: обращаться к Семену Павловичу — все равно что тыкать пальцем в тюк ваты: не проткнешь.
— Колодцы, что ль, я должен вам рыть? Этого еще не хватало, — проговорил Малинов, и мешки у него под глазами вздулись так, что казалось, вот-вот лопнут.
— Из ваших слов я могу сделать вывод, Семен Павлович: вы по неразумению тормозите дело, и поэтому проект водопровода два года гуляет по областным учреждениям. Два года! Два года мы ждем, товарищ Опарин, — обратился он к председателю облисполкома. — Два года, товарищ Опарин, мы ждем, чтобы вы написали на уголке нами разработанного проекта: «Утверждаю».
Опарин заерзал на стуле и молча, через плечо, большим пальцем показал на Малинова, как бы говоря: «Он держит», — и, встрепенувшись, проговорил:
— Слово имеет товарищ Лагутин, секретарь Разломовского райкома партии.
Когда Лагутин вышел на трибуну, Аким Морев и Иван Евдокимович сразу и не узнали его: он стал как будто еще выше, на бледном лице выделялись густые черные брови; только вот характерная прядь волос, ниспадающая на лоб, да выдавшиеся скулы были лагутинские.
Сначала Лагутин рассказал о том, что Разломовский район находится в ста восьмидесяти километрах от Приволжска, в восьмидесяти — от железной дороги, что в былые времена людей на работу в этот район посылали в качестве наказания за те или иные проступки.
— А ведь у нас одной только земли больше миллиона гектаров. Слышите? Больше миллиона! На этих землях пасется до двухсот тысяч голов овец. Тонкорунных овец. В одном только колхозе «Гигант», где председателем Жук, мастер своего дела, сорок тысяч овец. Единственно, чего нам не хватает, — воды. Но ведь Большая вода вот-вот придет: в следующем году канал Волга-Дон будет пущен, и тогда из него, из Цимлянского моря к нам в степи хлынет Большая вода, и мы в течение пяти лет двести тысяч овец превратим в миллион. Сколько первоклассной шерсти мы дадим государству, сколько первоклассного, как чабаны говорят, мраморного мяса… А обком партии, я говорю прямо, обком партии во главе с Малиновым так до сих пор на Разломовский район и смотрит, как на место ссылки: присылают к нам на работу пропойц, мелких воришек, болтунов. Недавно подкинули начальника раймилиции. Он как приехал пьяный, так вот уже месяц и не просыпается: пьет и пьет, спаивая других. Здесь товарищ Сухожилин кинул реплику: «У нас колхозники зажиточные». Верно, наши колхозники не нищие. Но ведь этим зажиточным колхозникам нужна и духовная пища: только в самом Разломе шестьсот учеников, двадцать три учителя, да и молодежь-то вся имеет семилетнее, а то и десятилетнее образование. А мы с самого возникновения Разломовского района не видели у себя ни одного актера, ни хорошего лектора, ни писателя. — Лагутин улыбнулся во все лицо и сказал: — Впрочем, недавно Смельчаков, который вот с этой трибуны вчера распинался, прислал к нам гипнотизера: он перед публикой кошку превращал в крысу, крысу — в кошку.
Дальше Лагутину говорить стало невозможно: он что-то кричал, размахивал руками, но его голос тонул в хохоте, в громе аплодисментов.
Малинов сердито подвинул Опарину колокольчик, и председательствующий, поднявшись, начал звонить, но на это почти никто не обратил внимания: все хохотали, хохотал в том числе, широко разевая рот, и Александр Павлович Пухов; только Малинов и Сухожилин все больше хмурились.
4
После того как с трибуны сошел Лагутин, Малинов наклонился к Опарину и, тыча пальцем в список, что-то проговорил. Опарин, не рассчитав, довольно громко, на весь зал, ответил:
— В порядке записи даю, — и добавил, сердито фыркнув: — Слово имеет директор автомобильного завода Николай Степанович Кораблев.
Пухов разом ожил, повернулся к оратору.
Николай Кораблев, точно глыба, навис над трибуной. Чуть склонившись, он вцепился руками в ее углы, обращенные в зал, да так и не отрывался от них до конца речи.