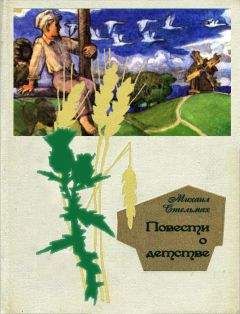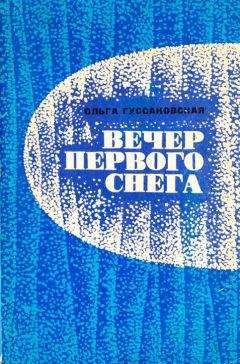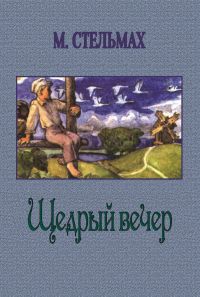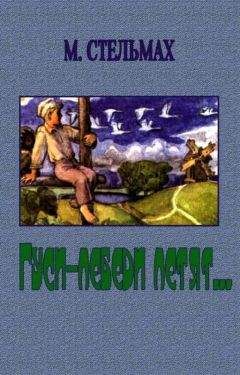— Вот сторговались, вот выпал редкий вечер, — сказал в сердцах сам себе отец и смерил меня теми глазами, в которых и следа не осталось от чертиков. — Ну?
Я сник, наклонил голову, догадываясь, что оно стоит за тем «ну», и размышлял, как бы тихо подобраться к двери. Но как раз отец встал посреди хаты, навис над моей головой, что сама опустилась вниз.
— У тебя, скандалист, глаза не сгорели от стыда?
Мигнул я веками раз, мигнул второй раз — убедился, что глаза не сгорели, и дальше ни звука.
Тем временем из овина вошла мать, встала у печи, не то улыбаясь, не то кривясь.
— Ты, умник, в рот воды набрал или губы зашил? — строго допытывается отец. — Выгнал дядьку и молчишь? Ну, скажи еще хоть слово!
— А что мне говорить? — пожимаю плечами и снова мигаю веками — нет, глаза все-таки не сгорели.
— Откуда же ты, бестолочь, знаешь, что дядюшка деньги мерками меряет? Ты у него, может, соучастником при этом был?
— Нет.
— Значит, не соучаствовал, — устанавливает отец истину. — Так где выкопал такое?
— Как скажу, вы еще больше рассердитесь.
— Куда уж больше. Не мни свое слово — говори!
— Так вы же это сами говорили о дядьке Владимире.
— Я? — удивился, нахмурился отец и неожиданно улыбнулся. — Таки говорил! И хоть ты, закоперщик, имеешь уши, как разваренные вареники, но зачем встрял в разговор взрослых? Зачем?
— Я же, отец, хотел помочь вам, — невольно коснулся руками своих обиженных ушей.
— Дождались помощника! Вот некому отодрать хворостиной босяка! — отец погрозился на меня пальцем, а дальше глянул на маму. — Это не ты ли его настропалила?
— И такое вы сказали? — будто с укором покачал я головой, потому что уже видно было, что мне сегодня не перепадет по загривкам. — Разве же я не знаю, как у нас меряют деньги?
— А как? — вздохнув, поинтересовался отец.
— У нас чьи-то деньги меряют, как картофель: и телегами, и мешками, и мерками, и котлами, и горшками…
— Ох, и мудрый же ты. Все заносишь в свою голову. Гляди, чтобы за это когда-то не отвечала она: беда всегда за умных цепляется. — И уже с улыбкой обратился к матери: — А видела, как этот засядько лепетнул из хаты?
— Да видела, — вздохнула мать, постлала мне постель и, задумчиво улыбнувшись, сказала: — Спи, дитя, пусть твоя судьба растет…
Как хорошо прозвучали мне эти слова, приблизили к нашему дому-овину судьбу, ту нелюдимую женщину, которая не очень спешила встретиться с людьми.
Засыпая, я слышал, как родители снова начали спорить, и в свой сон захватил материнские слезы. Они сначала будто падали на землю, а дальше поднялись вверх и смешались со звездной пылью… Разве так может быть? Пока подумал над этим, передо мной расступилась хата, село, и я оказался в бескрайних степях перед удивленным табуном дроф. Они сейчас не знают, что им делать: или убегать, или идти ко мне. А за птицами, которые сбились вместе, выгибается, седеет и темнеет ковыль, а к нему синим цветом прибивается море.
Потом сон переносил и переносил меня и к наклонившейся ржи возле ветряков, и к якимовской загородке, возле которой настороженно стоял барсук с барсучатами, и к тому лесу, где меня уже ждали огорченные, как дети, подосиновики. Враз они заговорили человеческим языком:
«Михайлик, не уезжай в степи…»
«Разве же я хочу ехать?» — говорю подосиновикам — и они понимают меня, с сочувствием покачивают своими шапками.
И в это время кто-то тряхнул мое плечо.
— Михайлик, Михайлик!
Я просыпаюсь и в дремотном лунном сиянии вижу наклонившегося надо мной отца.
— Чего вам? — привстаю с топчанчика. — Еще же совсем рано.
— Ну да, рано, дитя, — соглашается отец. — Ты не знаешь, где мама?
— Мама? — сразу же соскакиваю на пол.
— Ну да, — грустно-грустно смотрит отец в окно. — Проснулся, а ее нет.
— Где же она может быть? — ужасаюсь я.
— Не пошла ли прощаться с десятиной? Ну, спи, спи, — отец успокоительно кладет руку на мою голову и выходит из хаты.
Скрипнула калитка, а дальше зазвенели ворота — отец пошел в поле. Испуганный и растревоженный, я выскакиваю в затопленный лунным наводнением двор.
Над огородами, журавлями и подсиненными жилищами маревом дрожал тихий росяной сон. В нем еле-еле шевелилось спящее село. И только на невидимой леваде не спал коростель. На мураве, подплывая тенью, лежала Обменная. Она взглянула на меня, вздохнула, а в ее глазах сверкнула то ли слеза, то ли росинка. Надеясь на чудо, я в мыслях спрашиваю ее: «Где же моя мама?» Но чуда не произошло: лошадь молчала, как надлежит ей молчать весь век.
Тогда я решаю тоже податься в поле. Спросонок загудели ворота, и я оказываюсь на улице под тенями наших ясеней и вишен тетки Дарки. Здесь я сразу стал меньшим, а мир — большим, и лунный туманец прорастал из него и плыл по нему, цепляясь за овощи, плетни, деревья. На другом краю улицы показалась фигура отца. Я хотел крикнуть, броситься вдогонку за ним, и тут что-то зашелестело под забором. Я подался назад, а на дорогу осторожно вышла ежиха, в рту она держала маленького ежика. Прислушиваясь к миру, ежиха остановилась, повела головой, а дальше перебежала улицу, зашуршала в бурьяне и перебралась в наш огород.
Встревоженный, удивленный, я смотрю ей вслед, приклоняюсь к плоту, а в это время что-то зашелестело в углу сада; оттуда, из теней, медленно-медленно, пошатываясь, вышла мать. Вот она подошла к яблоне, прислонилась руками и лицом к ней и что-то зашептала, перемешивая слова и вздохи. То ли она прощалась с деревом, то ли рассказывала ему свою печаль? Дальше, словно лунатик, мать пошла на огород и остановилась возле головастого подсолнечника. Она тоже заговорила к нему, а он молча покачивал головой, будто и ему была понятна человеческая печаль.
И мне показалось, что мать касалась руками не подсолнечника, а наклонила к себе мою голову. Всю тревогу как рукой сняло. Успокоенный, я улыбнулся миру, дедушке месяцу, и меня сразу оплетает росяной сон. Он так одолевает меня, что я едва дохожу до хаты и падаю на топчан. Засыпая, еще услышал, как вошла мать, как укропом, подсолнечником и росой запахли ее одежда и руки, легко повеяли над моими видениями.
Через то беспокойство ночью я проснулся прежде обычного и стал прислушиваться к рассвету.
Я и поныне прислушиваюсь к рассветам! Меня и поныне волнует, как рассвет собирает еще темные росы, собирает с небосвода звезды, сладко зевая, бредет посреди туманов, отворяет двери какой-то хаты-белянки, посылает девушку по воду, а дальше приотворит те двери, за которым ночевало солнце, и улыбнется, довольный своей работой. Я и поныне встречаюсь с солнцем в поле, в лесах или на реке и приучаю к этому своих детей…
В дом входят родители и молча удивляются, что я уже встал. В межбровье отца собрались хлопоты, а материнские глаза, видно, и сегодня купались в слезах. Пока я это прикидываю в мыслях, на дворе отозвалась утка: «Тах-тах-тах».
— Кого бы это так рано? — взглянул отец на мать — видно, ему хотелось, чтобы она заговорила к нему.
И мать, заглядывая в печь, грустно сказала к огню:
— Кто его знает? Может, Дарка.
Но это шла не тетка Дарка, потому что в дверь кто-то тихонько постучал.
— Заходите, заходите, — мать выхватила из огня кочергу и поставила в уголок.
Двери отворились, и мы все с удивлением увидели на пороге смущенную Любу. В руках она держала зеленоватый кувшин с земляникой.
— Доброе утро вам, — поклонилась Люба.
— Доброе утро, девчинятко. Ты чья? — удивилась мать.
— Я, тетушка, Люба, — несмело сказала девочка и пошатнулась, как камышинка.
— А-а! — сразу же догадалась мать. — Проходи, проходи ближе. Ты к Михайлику?
— Нет, тетушка, я к вам.
— У тебя к нам есть дело? — удивился отец и грозно взглянул на меня. — Это ты, умник, уже что-то натворил? Давно на твоих плечах не танцевал ремень.
— Вот вечно вы на меня! — обиделся я.
— Что же у тебя, моргуха[30], к нам? — подошел отец к Любе и с любопытством посмотрел на ее свежевымытое смуглое личико, на заботливо заплетенные косички и те окостеневшие пуговицы на блузке, которые чего-то оскорблено надули щечки.
Люба подняла голову и грустно посмотрела на отца.
— Михаил мне сказал, что вы собираетесь ехать аж туда, где совсем нет лесов, так я вам принесла земляники, потому что ее там тоже не будет, — протянула отцу кувшин и уже совсем тихонько прошептала: — А мы с Михайликом не хотим, чтобы вы ехали.
— Ты смотри, — растерянно сказал отец и даже замигал веками. Он поставил кувшин на стол и одной рукой прижал Любу к себе.
Возле печи всхлипнула мать и вознамерилась выйти в овин.
— Подожди, Ганя, — кротко остановил ее отец. — Не видишь ли, что теперь малые начинают учить старших?
— Может, послушай их, Афанасий?