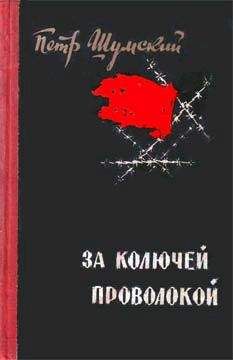— Слышу, — покорно откликнулся Шпак.
Командир полка сказал:
— Сами решайте, товарищи, как нам с ним поступить?
— Расстрелять! — крикнуло несколько голосов.
— Расстрелять! — донеслось из задних рядов.
— Помиловать! — вздохнул чей-то одинокий голос.
— Товарищ Колосков, — спросил комиссар, — вы что предлагаете?
Колосок вдруг почувствовал, как тяжело ему выговорить это недлинное слово. Вспомнились хутор, хата Шпака, отец его — старый уже. Не вернется к нему с войны сын, потому не вернется, что он, Колосок, скажет сейчас — не может не сказать — это жесткое, справедливое слово. Колосок трудно перевел дыхание и сказал, будто деревянными губами:
— Расстрелять!
Терентьич объявил:
— Голосовать оружием! Кто за расстрел — шашки к бою!
И, словно над головой Шпака, сразу взметнулись сотни клинков.
Шпак слез с лошади, тупо посмотрел кругом, шатаясь прошел между рядами бойцов. Около Дениски остановился, невнятно пробормотал:
— Китаец выдал… У, «ходя» проклятый!
* * *
В степи двое: Шпак и Колосок. Они идут молча, сторожко следя глазами друг за другом.
— Вот убьешь ты меня… кончится война, приедешь домой, спросят тебя станичники: а где Шпак? Что ответишь?
Колосок молчит, кусает ус. Правая его рука ощупывает в кобуре прохладное тело нагана.
— Молчишь?
— Я долг сполняю.
— Долг! Своих убивать — хорош долг!
— Ты не наш, ты — чужой, у нас не такие.
— Ты думаешь, я смерти боюсь? Нет, Шпаки не боятся. Только больно, понимаешь, больно погибать от тебя, от своего. Ведь росли вместе, вместе служить пошли, а вот грех — баба… Ведь ковер-то отдал я, отдал! Ну баба! С кем греха не бывает? В голову шибануло, не совладал. Это китаец донес, никто как китаец. — Шпак повернул к Колоску лицо, по которому торопливо бежали слезы.
— Колосок, Миша, слышь? Помилуй. Молю тебя, убегу, никто не узнает. Век вспоминать буду. Отпусти, Мишенька…
Он вдруг остановился, упал на колени.
— Миша! — Шпак зарыдал. Правой рукой он схватил сапог Колоска, мучительно прижался к нему лицом.
— Нет, не проси!
— Нет? — Шпак встал, обтер рукавом лицо. — Ну что ж, знал, что не помилуешь. Душа у тебя в кобуре, трудно с ней говорить. — Он умолк, осунулся, и они вновь пошли по степи.
У балки остановились.
— Сядем, — предложил Колосок, вынимая кисет, — закурим?
Дрожащими пальцами Шпак свернул папиросу. Солнце уходило за перевал… Покурили.
— И куда торопится солнце? — тихо сказал Шпак.
Колосок приподнялся, вопросительно взглянул на него.
— Ты меня… подальше бы от дороги, Миша, а то тут ездят.
— Это можно.
Свернули с дороги, прошли несколько шагов. У ног лежала зеленая балка.
— Мы пойдем во-о-о-н туда, — показал пальцем Колосок.
Шпак вздрогнул от показавшегося ему чужим голоса, взглянул туда, куда указывал Колосок, и вдруг круто обернулся. Налитый ненавистью взгляд его уперся прямо в дуло поднятого револьвера.
— Ну что ж, стреляй, сволочь!.. Обмануть думал?..
Указательный палец Колоска дрогнул, спуская курок.
Шпак, разодрав рубаху, пьяно покачнулся и раскинулся по траве.
Колосок нагнулся, осторожно закрыл ему веки. Кисть руки убитого вздрогнула и упала на землю.
* * *
Наши войска прорвали фронт белополяков еще в первых числах июля и, вот уже который день, объятые страхом за свои тылы, пилсудчики катятся к Гродно. А по тылам гуляют полки Гая, почти безостановочно продвигаясь на запад.
Белесая темень промозглого тумана закрывала все: дорогу, степь, ряды товарищей. Где-то с правого фланга, видимо, в балке, рвались снаряды. Грохот взрывов доносился глухо, не будоража сердце.
Дениска, уткнувшись в бурку, думал о расстреле Шпака, о пропавшем Дударе и о матери, что осталась далеко в станице.
В тумане замелькали люди: полк обгонял какую-то часть — сбоку дороги стояли кубанцы, только что вышедшие из боя.
— Здорово, Егор!
— Здорово.
— Братцы, а Пархвенова нету у вас?
— Какого Пархвена?
— Пархвенова.
— А! Пархвенова?.. Нету.
— Да куда тебя черт прет с конем, зенки позылазили, што ль?
— Не стой на дороге.
— Много отправилось наших-то в бессрочный?
— Наших? Нет, не очень. Вот белополяков поклали вчерась махину.
— Говорят, самого Пилсудского взяли в плен?
— За малым не прихватили.
— Ишь-ты. Убёг, значит?
Дениска вглядывался в неясные в тумане лица, ловил слова, от которых становилось теплее на сердце. Вот эти люди, которые вчера, на рассвете, может быть, лежали в густом нескошенном жите, прижатые к земле огнем, сейчас стоят у дороги, улыбаются, шутят…
— Здорово, Дениска!
Дениска перегнулся с седла, пытаясь разглядеть того, кто его окликнул.
— Кто тут?
— Да это я, Андрей, — проговорил парень, хватаясь рукой за переднюю луку.
Дениска в длинном, отяжелевшем, угрюмом парне узнал одностаничника, с которым не виделся чуть ли не с самой войны.
— Андрюша, здравствуй! Здоров?
— А с чего ж мне болеть? Здоров, — мрачновато ответил Андрей.
— Не ранен?
— Не-е-е. Не слыхал с дому ничего?
— Нет, а ты?
— Читал газетку: Врангель в Донбасс лезет.
— Ну-у-у-у?
— Вот те и «ну». Мы к полякам, он к нам. Вот тебе и круговерть! Армия у него — несть числа. Никак не одолеют: прет и прет, на Дон лезет.
Дениска слушал земляка, волнуясь: вдруг захватят врангелевцы станицу, а там его мать!..
Андрей оторвался от седла, крикнул вслед Дениске:
— Круговерть! Аж голова кругом!..
Где-то позади, у дороги, остался сменившийся полк Андрея. Дениска подумал: «Если жив буду, напишу матери, чтобы она не беспокоилась, а еще спрошу в письме, что слышно про Врангеля».
…Ехали долго-долго, потом внезапно остановились. Полк разворачивался.
Шепотом передавалась команда:
— Не разговаривать.
Дениска заметил, как две сотни отделились, свернули влево. Мимо проскакал, видимо с донесением, ординарец. Один из разведчиков пошутил:
— Будем блукать, братцы, пока и зенки не выблукаем.
Буркин сердито оборвал:
— Прекрати басни, ай команды не слыхал?
Терентьич вызвал команду разведчиков.
Вытянув по-гусиному шею, Буркин слушал распоряжения Терентьича. Левое ухо заложило наглухо, и он, принимая приказание, все подставлял правое.
— Вы меня слушаете? — спросил командир полка.
— Слухаю, товарищ командир.
— Имейте в виду, ваша команда — глаза и уши полка.
— Точно так — глаза и уши! Только я вот на левое ухо туговат.
Колосок хохотнул, но, поняв неуместность смеха, тотчас посерьезнел.
— Через час-полтора туман рассеется. К этому времени чтоб донесли. Всё.
Буркин неуклюже поерзал на седле. Движением руки указал бойцам направление. Выехали. Ехали молча, касаясь стременами друг друга. Сквозь волны тумана слабо пробивалось бледное солнце. Где-то впереди, будто тронутая веслом, в берегах плескалась неугомонная вода. Туман заметно поредел, стал пропускать голубые, похожие на проруби, полосы кое-где очистившегося неба.
На развилке дорог остановились. Дениску с китайцем выслали вправо. Впервые Дениска был за старшего в разведке: до сих пор он ходил вторым — за Дударем или Колоском. Ехали осторожно, придерживали повод. Дениска вытянул кисет, закурил.
Китаец глянул на него, улыбнулся:
— Моя ходи не боис, и твоя не боис. Молодес.
— Звать-то тебя как?
— Чиво?
— Звать-то как?
— А, моя? Ван Ли.
— Иван-ли? Ну, ладно, курить будешь, Иван? — предложил кисет Дениска.
Китаец отрицательно замотал головой.
— Не хочешь? Ну что ж… — Он вдруг насторожился: совсем рядом заплескалась вода. — Река.
Китаец согнал с лица улыбку, поспешно снял карабин. Придержав лошадей, долго всматривались вперед и по сторонам. Ничего подозрительного не обнаружили. Тронулись дальше, ловя каждый звук, долетавший из тумана. Черной извивающейся лентой выбежала дорога, прорезала степь и опять ушла, скрылась в тумане.
Под копытами хрустела трава.
— Должно, толока[3], — проговорил Дениска.
— Далёко, далёко, — согласился китаец.
— Не далёко — толока! Скотину тут пасут. Понял?
Ван Ли недоуменно посмотрел на Дениску.
— Далеко живешь-то? Дом твой где? Мать жива?
— Ма, — обрадовался китаец. — Ма далеко… Китай, Люхо.
— Ага! — понимающе кивнул Дениска. — И у меня мать далеко, на Дону. — Его вдруг охватила нежность к товарищу, у которого мать тоже где-то далеко. Он вздохнул: — Хороший ты парень, а вот Шпака-то выдал. Как же это?
— Шпака — собака. Его мало-мало убивать надо, — убежденно ответил китаец.
Лошади осторожно вошли в воду, потянулись к ней мордами.