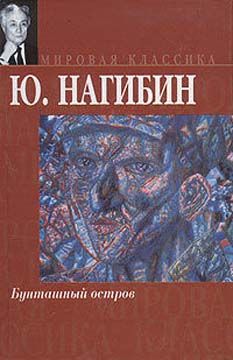Спал я на террасе. Набитое звездами громадное — всюду — небо вытянуло меня наружу и поместило в пространстве. Оно было таким же, как в детстве, когда я спал в сухотинском яблоневом саду или под стогом в ночном, во всю сферу, не пригашенное никаким светом с земли, оно переливалось, мерцало, ворошилось, мигало, пульсировало, жило, и лишь Млечный Путь оставался недвижим…
И была великая тишина. А я — постоянный житель Подмосковья — забыл о беззвучном мире. Ах, эти пионерские горны и бодрящие команды физзарядки, разносящиеся далеко окрест, и шесть пластинок, которые вот уже два десятка лет сопровождают юную, а заодно и нашу жизнь с раннего утра до позднего вечера; автомобили, бульдозеры, тракторы, мотоциклы ведут свои партии; трижды в день электродойка на молочной ферме шлет в простор пасхальный звон — я люблю рассматривать репродукции волжских видов Кустодиева с чудесными церковками и колокольнями на фоне синих небес под благовест доильных аппаратов; но главная звуковая мощь изливается сверху, там сосредоточены геликоны, тромбоны, барабаны, медные тарелки: над нами набирают высоту реактивные лайнеры с Внуковского аэродрома, над нами пролегает вертолетная трасса, соединяющая Внуково с Домодедовом, гигантские стрекозы почти задевают маковки сосен; и старые заслуженные самолеты, которым давно уже поставлены памятники, задышливо тянут над нами, патрулируя Калужское шоссе, а стрекочущие сельскохозяйственные самолетики трудолюбиво кропят белесой слизью наши скромные садочки; порой в блистающем, без облачка небе гремят тяжкие громы — то одолевают звуковой барьер новые ястребки. Ночью — я сплю у открытого окна — изрыгающие красное пламя драконы проходят так низко, что я вжимаюсь в подушку. Нет тишины, нет неба, нельзя же считать небом ту истерическую высь, загаженную и провонявшую не меньше земли, где моторный рев давно погасил музыку сфер.
А сейчас надо мной простиралось небо. Тихое небо над притихшей землей. Полное беззвучие. Даже склеротический щебет крови в ушах — весенний лес, который всегда со мной, — замолк, пристыженный великим покоем мироздания. И не могло не родиться что-то из сплава внутренней и внешней тишины. Милые, забытые и полузабытые тени обступили меня. Они явились из дней моего младенчества, которые я не помнил, но, оказывается, все же помнил, из акуловского и рязанского детства, из громадной московской квартиры и кипящих котлов двух глубоких московских дворов, из дней моей первой любви в сердоликовом, горячем, ветреном, райском довоенном Коктебеле, из войны и поздней жизни, с кладбищ, оставив свои ведомые и неведомые мне могилы; были среди них фотографы-пушкари с Чистых прудов, лодочники с разных пристаней — от Клязьмы до Ангары, милиционеры, зеленщики, продавцы ирисок и мороженого, охотнорядские мясники, школьные учителя, хранительница моего детства Вероня и вся ее бесчисленная родня. Мать в расцвете бесшабашной молодости, уводившей ее от меня, и старый, со всосанными щеками врач, лечивший бесплатно всех детей нашего дома (за доброту ему платили травлей, потому что был он рассеян, беззащитен, горд и обидчив), — и, кажется, тут я начал плакать и плакал не переставая, до пробуждения, если только я действительно плакал, а не омывал сновидений воображаемыми слезами.
И сколько тут было людей, но не было ни одного лишнего, они все нужны мне, и я бы не поступился ни одним фотографом, обещавшим птичку, которая так и не вылетела, ни одним зеленщиком и — уж подавно — ни одним мороженщиком, ни одним таксистом и ни одной легкомысленной девицей. Но даже по самому снисходительному счету, разве мне не попадались дурные и злые люди? Да, но им здесь не было места. Воображение вызывало лишь тех, кто хоть чем-то помог моей жизни: морковкой с лотка, леденцовым петухом, пятикопеечной порцией мороженого в вафлях, добрым словом или взглядом или осуждающим молчанием. Как много надо людей, чтобы прожить и не сломаться, не рухнуть, а тут были и те, кто откупил меня ценой собственной жизни от смерти, мои товарищи, не вернувшиеся с войны. И мне представилось, что и я участвую в чужих хороводах, ведь и у других людей случаются минуты тишины, когда они могут оглянуться на тех, кто им сопутствовал или просто мелькнул блестинкой добра в их жизни. Как велика людская взаимосвязь, о которой мы забываем в повседневной суете. «Мы одной крови — ты и я» — почему пароль джунглей, подслушанный Киплингом, не стал правилом человеческого общежития? А ведь мы так слабы, немощны в одиночестве, мы ничего не можем, если другие нам не помогают. Азбучная истина. Но ничего так легко не забывается, как азбучные истины. Спасибо доброй, тихой ночи на Угре, что напомнила о ней.
Разбудил меня петух. Казалось, он заорал в самое ухо. Я вскочил с сильно бьющимся сердцем. Не от испуга, от счастья и печали. Оказывается, с той уже далекой поры, когда я бросил охоту и рыбалку, не звучал мне голос «глашатая новой жизни». У меня дома есть старые английские напольные часы с боем — тоже хорошая штука, особенно зимой, когда темно, за окнами еще ночь, а семь мерных звонких ударов напоминают, что пора начинать жизнь, и гарантируют — без всяких оснований — покой и уют. Но это совсем другое — надтреснутый, хриплый, раскатывающийся по всей вселенной голос матерого, испытанного в боях и любви, бесстрашного петуха. Это призыв к битве, к подвигу, к молодости…
А потом был забытый гром пастушьего кнута и тяжелый топот коров, собирающихся в стадо; я приподнялся на койке и ухватил промельк четырехголового призрака, выметнувшегося с соседнего двора.
И тут сразу две курицы ликующе-паническим коконьем оповестили мир о счастливом разрешении от бремени. Вон они в ямках у плетня наших других соседей. Из дома вышел заспанный капитан в фуражке, бушлате, но без подштанников, голые незагорелые ноги засунуты в валенки. Он проковылял к раскричавшимся курицам, выгнал их из ямок и вынул по большому белому яйцу. Приложил к щекам, чтобы ощутить теплоту. Строго поглядел на огнистого петуха, и тот понял его взгляд как призыв к действию. Хлопнув крыльями, низко опустил голову, словно для боя, и молниеносно подмял рябенькую курочку. Для обладателя такого гарема он отличался редким постоянством. Капитан потрюхал назад, споткнулся на ступеньках крыльца, шлепнулся, но яиц не выронил. Он поднялся, поправил сползшую на нос фуражку и, немного поразмыслив, вдруг взял поразительную по силе, высоте и длительности ноту и с ревом вошел в дом.
Квохтали квочи по всей деревне, крякали утки, гоготали гуси, вскрикивали и бормотали голуби, скрипел колодезный ворот, заржала лошадь — чисты и вечны эти древние голоса. Да какой там вечны! Все это уже на исходе, а что придет на смену бытию, породившему русскую культуру?..
То затопляемые водами многими, то просто оставляемые на могильное гниение или на утеху сезонным людям, исчезают деревни. Говорят о необратимости исторического процесса, о выгодах, которые проистекают от этого в народной жизни. Самое легкое — предсказывать далекое будущее, поди проверь. А кто знает — может, все дозволено стронуть, сдвинуть, вывернуть наизнанку, а избу не трожь? Пахарем жила Россия, а пахарь жил в избе…
…Когда я мылся во дворе под рукомойником, появился озабоченный Федя Самоцветов с офицерским планшетом через плечо. Он достал из планшета тетрадочный, в клетку, лист и толстый канцелярский карандаш. Задумчиво постукивая карандашом по зубам, он стал обозревать ближайшую местность. Вера Нестеровна говорила накануне, что Федя странный мальчик: он не купается, не плавает на дырявой надувной лодке, не ходит в лес, не дразнит девчонок, не играет ни в какие игры, живет в своем особом, тщательно оберегаемом мире, включающем книги, раздумья, страсть к топографии (он каждый день наново составляет план местности), уклонение от домашних обязанностей и постоянные ссоры с кузеном Княжевичем, причины которых невозможно уловить, поскольку интересы мальчиков не пересекаются. На мой взгляд, тут не было никаких тайн. Противоположности не всегда сходятся. Прямую, активную натуру Миши должна нестерпимо раздражать лунатическая повадка Самоцветова. Душевная самоизоляция Феди не обеспечивает ему защищенности, для этого он слишком нежен и раним. Любая резкость, грубость, малая несправедливость заставляют его страдать.
В романтическом, гордо-застенчивом Мише естественно и закономерно развивается мужское героическое начало. Самоцветов сложнее. Зачем он, едва проснувшись, составляет план местности, словно не может без этого ступить в знакомый мир, ограниченный для него, заядлого домоседа, несколькими избами, огородами, плетнями, палисадниками, сараями, домиками уборных, поленницами дров, купами деревьев да зарослями репейника? Но Федя с маниакальным упорством каждое утро погружается в свой однообразный кропотливый труд. Дурости взрослых людей свойственно провидеть будущее детей в их увлечениях. Значит, Феде предстоит стать топографом, или картографом, или штабным офицером, имеющим дело не с живым миром, а с его схематическим изображением, нейтральным к чувствам жалости и сострадания. Но мне почему-то казалось, что в этом «схематике» скрывается художник, которому слишком мучительно соприкосновение с внешним бытием, и он пытается хоть как-то упростить его, упорядочить, укротить, сделать не таким сложным и страшным. Другое дело — Миша, он художествен своей сутью, не источник творческих сил, а объект для их приложения. Пловец, ныряльщик, отчаянная голова, он обращен вовне, а такие люди становятся или зиждителями, или деятелями. Пока я мылся, предаваясь одновременно приятному праздномыслию, Федя завершил свой чертеж. Он успел расписаться и поставить дату, когда появилась Вера Нестеровна с эмалированным бидоном.