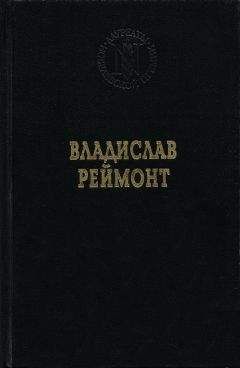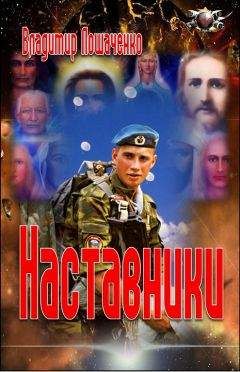— Наш пот и труд в его погребке, — сказал старик сторож. — Грех чужое брать, а свое вернуть сам бог велит.
— Пускай он же велит и простить нам гулевые поминки по надругателю нашему и тирану, — поддержал сторожа истощавший молотобоец. — Кто как умеет, тот так и воздает свою хулу за долгое истязание. Кому как надо, тот так пусть и судит о нас. Разбирайте забор, стелите помост. Всю вину беру на себя, если найдется такой судья, который опорочит нас за это святое отмщение!
— Святое! — повторил сторож. — Ибо есть непростимые прегрешения, за которые не сыскать возмездия, и всякая кара за них будет мала...
Сказанное нашло неожиданный отклик. Вдруг вспомнилось и то, что. забылось. Битье. Увечия. Надбавки рабочих часов. Убавки заработанных рублей. Девичья повинность перед венчанием. Дармовой ребячий труд. Высидка в заводской тюрьме ни за что ни про что. Глянул не таки в сырой каземат. Пытки жаждой и голодом. Порки с присыпкой соли. Обязательные подношения к праздникам. Травля собаками...
Вспомнилось столько всего, рассказывалось про такие глумления, что и не пожелавшие участвовать в непотребном пиршестве не расходились по домам.
Теперь уже говорилось не о выстреле в цирке, не о подкупленном Зюзикове, а о зверствах Гранилина. Не все и не всё знали. Иным легче было носить в себе свою боль и молчать. Боялись хозяина до последнего дня. На отшибе, в глухом лесу, прятался рабочий поселок гранилинского замочного заведения. Грамотных на десятерых один. Люди привыкли жить в ярме. Застращивания Гранилина каторгой, виселицей держали в страхе мастеровых. А теперь...
Теперь больше нет страшного пугала. Нет и распроклятого дома, куда приводили на расправу к хозяину. Нет и главного живодера Зюзикова. Нет! И...
И сами собой развязались языки. Сама собой хлынула горечь злых обид за укороченные жизни, за искалеченные судьбы. И как удержать теперь в себе проклятия, как не предать им ставшее пеплом и золой?..
До погребка дорылись легко. Еще легче забор превратили в настил. Оставалось дождаться Кузьму Завалишина. Он у Гранилина выстрадал больше всех. А теперь Кузьма главный замочник Акинфиных. Туз бубен. Не иначе, тысячник. Свой дом о четырех горницах. Две лошади. Одна просто так, другая для выезда. Приедет ли? Что-то долго за ним посыльные бегают.
— Приедет! Как не приехать! Он же насквозь наш, тутошний, родной! — убеждал сторож.
Приехал! Прикатил гусевой на обеих-двух! В жеребковой дохе, в каракульчатом треухе, а сам все такой же...
— Здорово, браты-брательники-братки! Как ночевалось, как спалось? Видать, жаркие были сны?
Ответили приветливо. Повели на помост.
ГЛАВА ШЕСТАЯ
Позднее предновогоднее солнце, переваливши в лето на воробьиный скок, осветило на помосте до крайности забитый, темный люд. Не верится, что все это происходило в год великих потрясений, в год первой народной революции в России.
Пройдет немного лет, и эти люди спросят у самих себя: было ли такое?
Было!
Вот же они, вот гранилинские доведенные до нищеты мастеровые. Всмотритесь в их испитые лица. Потерявшие надежды люди молчат и ждут, что скажет, как повернет их жизни разбогатевший удачник Завалишин. А он, куражась, уже забыл, что так недавно был таким же, как и остальные, сидящие вокруг него.
— На морозе водка хуже берет, — делится с дружками Завалишин. — Пью-пью — и ни синь-пороха! Неужели она жижнет от холода? Ну, да шут с ней! О деле поговорим...
А дело заключалось в том, переходить ли гранилинским рабочим в Шальву или перестраивать свое заведение и остаться при своих домах.
— К нам-то бы лучше вам, браты, — сказал Завалишин. — Сразу плата большим рублем... А этот заводишко, пока еще в нашенский вид приведут, на хрене да редьке вас повытомит.
— Зато здесь мы дома, — сказал свое слово старик на костылях. — И речка, и пруд, и огороды свои. А как пустят его в новом обличии, и коровенки будут свои, а то и лошади. У нас же раздолье, не то что в шало-шальвинской густоте.
Свой завод был сподручнее для всех, но до того, как старые мастерские перелопатят на Платонов лад, их нужно было купить. А купит ли его строптивый Платон Акинфин?
— Он не купит — я куплю, — топнул о помост Завалишин. — Подумаешь, деньги! Во что можно оценить две завозни да пять развалюх?
— А кто продаст? Наследница-то в монастыре. Вдруг да монастырь и заберет монахинево наследство? Опять закавыка.
Но закавык в этот пьяный день не было. Опять встрял старик сторож на костылях. Он про Гранилиных знал и то, что они не знали про себя.
— Оно так! Гранилин заставил битьем свою Зинаиду Сидоровну доброй волей пойти в монастырь. А как постриг ее подоспел, бунты начались, сходки, гам и равноправие. Тут-то раба божия Зинаида, которой прочили быть сестрой Зиновией в монашестве, восхотела повременить. А вдруг да воля для всех выйдет? Как она тогда размонашится? И настоятельница монастыря тоже поприжала свою старую плоть к зашатавшейся под ней скамье. Так что купить-продать теперь — раз-два-три. Она же полновластная наследница.
Как на сцене, появилась на помосте в черном одеянии Зинаида Сидоровна. И, как в театре, кто-то подкинул ходовую реплику:
— Легка на помине, наследница... Как нам теперь — вон?
— Зачем лее вон? Разве кто слышал такое от меня?
— Так неловко, поди, Зинаида Сидоровна, этак-то разгульно поминать?
Гранилина сразу нашлась и сказала готовые слова:
— По покойнику и поминки, по поминкам и обряд. Налейте и мне, мужики, заупокойную. Трезвой-то я постесняюсь сказать ядреные поминальные слова моему суженому-ряженому, самым-самим безрогим пьяным чертом даденному.
Сказала так она и села рядышком с Завалишиным на откинутую полу его жеребковой дохи на кенгуровом меху. Выпила стаканчик и, не закусывая, другой. А он ей, как ровня:
— Да как же ты, Зинушка-голубушка, в такие ярые годы — ив монастырь?
— А как же ты, мастер, с такой золотой головой столько лет у него в шавках был?
Слово за слово, рюмка за рюмкой, стакан за стаканом и белое, и красное, ветчину топором нарубают, откуда-то и колбасная снедь выискалась. Ее тоже топором да в рот. И дальше все так же, как по писаным ролям на представлении.
— Я все слышала про покупку завода, — первой начала Зинаида Гранилина. — На ловца и зверь бежит. Я с превеликим. Только не на скорбном пепелище такие дела делаются. А позвать мне тебя, господин богатей, теперь некуда, — сказала она, подмигнув Завалишину. — Я полностью погорелая вдова. Ни обуть, ни одеть, ни голову приклонить...
— Так дуй ко мне, Зинаида Сидоровна! — пригласил Завалишин. — В моем дому и хороводу не тесно будет.
Языки начали, глаза договорили. Пересела повеселевшая Гранилина с завалишинской полы в его ковровую кошевку — и хлысть по обеим-двум да махом-бегом в Шалую-Шальву.
«Так начался и не кончился этот долгий сказ», — говаривал в старые годы «Бабай-Краснобай», и мы тем же складом этот пересказ прервем и доскажем в свой срок, когда этой нитке надо будет воткаться в наш пестрый холст. Теперь же нам необходимо не воткать, а ввернуть тонкий и острый шуруп о винтовых станках.
Платон Акинфин знал, зачем и что нужно было сказать о пяти искалеченных станках. Сказанное отозвалось громче, нежели можно было предположить. Оно коснулось сотен рабочих, и не только тех, кто производил изделия, так или иначе зависящие от винторезных станков.
Овчаров Александр Филимонович подозревал, что слесарь-механик Сергей Миронов, принятый пусковиком в механический цех, подослан заводчиком Потаковым, чтобы выведывать новинки главного шальвинского завода. Для этого были основания. У Потакова на небольшом его заводе, сопернике по роду изделий с Шальвой, сразу появлялось многое из того нового, что придумывалось, изобреталось ценой немалых усилий и затрат фирмы Акинфиных.
Прежде не было до этого дела, теперь же, когда заработок рабочих стал зависеть от сбыта предприятия, стало многое небезразлично. Овчаров не мог уличить Сергея Миронова в порче винторезных станков, а намеки давал. Не сомневалась в этом и старуха Мирониха, которой Сергей Миронов доводился внучатым племянником, и старухе хотелось его спасти. Она отлично понимала, что Платон и пальцем не пошевельнет, если будет доказано, что станки порушил Сергей. Рабочие сами его пускай не прикончат, но житья не дадут. Изведут. Затравят. Выживут. Такое бывало уже в Шальве.
Время не ждало. Запас болтов и винтов малых диаметров на исходе. Припереть Сергея Миронова легко. Но какая польза? Накажут, ко этим станки не вернешь.
Нашелся выход, при котором, не уличая Миронова, Овчаров вернет станки. Он пришел к Миронову утром в предновогодний день и сказал:
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
— Як тебе, Сергей Прохорович.
А тот:
— Не угодно ли, Александр Филимонович, с наступающим рюмочку шустовского пятирублевого? Мигом раскупорю.
— Это успеется, Сергей Прохорович. До шустовского пятирублевого хочу попросить тебя раскупорить дорогую двухсоттысячную потаковскую бутыль с зело ядовитым питием.