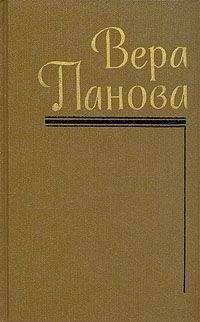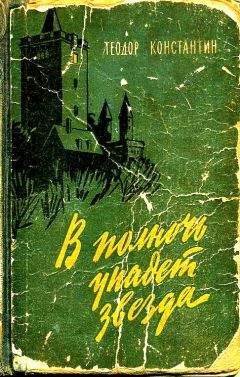— Ну, вот еще. А отец?
— Никого нет, только я.
— Удача, — усмехнулся он. — Пировала? — он увидел розовый кружочек конфетти у нее в волосах.
— Да, были гости, ушли…
— Что ж мало пировали?
— В клуб пошли, на танцы. Молодежь была.
— А!
Он не спросил, чьи же это были гости; не спросил ничего про Ларису и Юльку. Он считал их виновницами своих семейных неприятностей — бывшую жену и девочку-сестру, которая подняла бунт против него.
Он пошел по комнатам, Дорофея за ним. Он открывал двери и заглядывал в каждую комнату, заглянул даже к спящей тетке Евфалии. Чего он искал? Оживлял ли в себе воспоминания, грустил ли о том времени, когда он тут жил, заласканный и забалованный?
— Генечка, ты, наверное, хочешь есть.
— Есть? Нет… Тебе все кажется, что если я не дома, то вечно голодный хожу, да?
Он спросил это тоном ласкового снисхождения. Каждую получку она посылала ему часть своей зарплаты, и если получка задерживалась на день-два, она волновалась — как там Генечка, не сидит ли без денег. Ей постоянно казалось, что он недоедает, что у него, должно быть, прохудилась обувь и не на что купить новую…
Она ревниво оглядела его. Костюм еще совсем хороший, и новая рубашка, сиреневая, с дымчатой полоской.
— Тебе идет эта рубашка, — сказала она и пощупала шелк искусственный или настоящий.
— Честное слово, — сказал он, — я только для того и заехал, чтобы посмотреть на тебя, на одну тебя, можешь быть уверена.
Да, к несчастью, он ни к кому не привязан, кроме нее.
— А выпить?.. Там, кажется, осталась вишневая наливка.
— Я пил шампанское и еще что-то.
— Где?
— У знакомого тут одного. Заехал, у него встреча…
— Весело было?
— Ну, что за весело. Так — посидели, покрутили патефон.
Ему никогда не было весело.
— Ты надолго?
— До понедельника. Хотел у этого типа — где я сейчас был — выяснить насчет одной работы.
— Опять?
— Что значит «опять»?
— Опять на новую работу?
— Ты посиди-ка в той дыре, где я сижу, — сказал он, повысив голос, да отбарабань там четыре месяца!..
— Четыре месяца! Геня! Какие же это сроки…
— Да, конечно. Всю жизнь там просидеть.
Она сказала:
— Для того и сидят люди в таком месте, чтобы оно перестало быть дырой.
— Чего ж ты не сидела в дыре? Сбежала из дыры?
— Когда это было — тридцать лет назад.
— Какая разница!
— Громадная разница. Ты великолепно понимаешь. Если бы я жила там сейчас…
— Пожалуйста, живи, если хочешь. А я не хочу.
Она опустила голову. Все слова были сказаны в свое время, и всё как об стену горох.
Он сказал с прежней снисходительностью:
— Что мне с тобой делать? Только встретимся, ты сразу со своей агитацией.
Она испугалась, что он уйдет.
— Ну-ну. Расскажи, как живешь. Из твоих писем ничего не видно.
— А какая там жизнь. Лес да снег.
— Общежитие у вас, говорят, приличное.
— Муравейник… Я не в общежитии, на частной квартире. У главбуха, сказал он с усмешечкой, — он бы не сдал, да есть дочка, как не сдать… У них и столуюсь. Ничего кормит дочка…
— Ну, прекрасно, — сказала она с тоской, — значит, в смысле быта все нормально. Товарищи есть?
— Товарищи… Каждый думает — как бы выдвинуться. С одним вроде подружился, излияния его слушал… Изливался, изливался, потом как разнес меня на собрании!
Ни одного слова понятного. Сидят мать и сын, и оба говорят по-русски, а она его не понимает, как будто он свалился с Марса и разговаривает на марсианском языке.
— Может, он разносил за дело?.. И знаешь — я, откровенно говоря, ничего не имею против того, чтобы ты тоже выдвинулся. Что значит в наше время выдвинуться? Заработать уважение общества…
— Опять двадцать пять. Приехал, называется, повидаться с матерью…
Громко позвала автомобильная сирена.
— Это за мной! Я и забыла… Выйди, скажи, что я не поеду… Нет, постой, я сама, ты простудишься без пальто!
Она вышла к водителю, поздравила его с Новым годом и сказала: «Извините, не могу поехать»…
На улице потеплело. Шел снег. Крыша Гениной машины уже побелела. При виде этой машины, стоявшей чуточку накренясь на мостовой, у Дорофеи возникла новая тревога.
— Геня, знаешь что — надо поставить машину во двор.
— Зачем? Ключ у меня.
— Вдруг уведут, тогда что?
— Не уведут. Ворота открывать — целое дело.
— Я открою.
— Да не стоит, мать. Ничего не случится. Я скоро поеду.
— Чья это машина?
— Директорская.
— Он разрешил взять?
— Без разрешения из гаража не выпустят.
— И он знает, что ты уехал за двести километров?
— А какое его дело?
— Если ему завтра понадобится машина?..
— Черт с ним, обойдется «эмкой». Такое хамло, ты бы видела…
Он лежал на ее постели, на покрывале и кружевных накидках, свесив ноги и закинув руки за голову.
— Вот когда шампанское начинает действовать…
— Постлать тебе постель? Разденься и спи. Ты устал.
— Нет, я так… — пробормотал он. — Я немножко…
Что-то еще надо сказать, о чем же она забыла ему сказать…
— Да! Геня!
— А?
— Тебя сегодня спрашивал Саша Любимов.
— Сашка? Что ему?
— Не знаю, просто спрашивал… Генечка, у тебя и там все кончено?
Он зевнул.
— Да нет, зачем же. Она — ничего… Беспокоится?
— Должно быть.
— Я сейчас к ней. По крайней мере без… нравоучений…
Он спал.
Она сидела возле него, сцепив пальцы на колене.
В спаленку падал свет из столовой. Полусумрак скрывал то, что было некрасиво в лице Геннадия, — невыразительность, равнодушие, распустившиеся во сне губы, капли пота над верхней губой… Дорофея видела только то, что красиво: прямой профиль и прямую линию бровей под высоким лбом, темно-русые волнистые пряди на подушке и большие веки, за которыми, казалось, скрываются умные и гордые глаза. И, горюя о нем, о его неустроенной жизни, она не могла не любоваться им.
В окраинной ночной тиши еле уловимо — скорее угадываешь ее, чем слышишь, — звучала музыка. У соседей включено радио. Люди празднуют. Праздник по всей родимой земле, музыка в домах и в эфире.
В анкетах, в графе «социальное происхождение», Дорофея писала: «Крестьянка, середнячка».
«Место рождения: село Сараны».
Это в двенадцати километрах от железной дороги. Теперь там шоссе и ходит автобус, и есть телефон, и лекторий, и трансляция из Москвы и из области, а когда Дорофея была маленькая, даже школы не было. Иной раз вечером — уже темно в избе и велено спать — заиграет на улице гармонь, Дорофея спрыгивала с полатей, босиком перебегала впотьмах через избу, льнула к окошку. Из-за перегородки раздавался окрик матери:
— А ну, на место!
Дорофея нехотя взбиралась на полати. Лежала и слушала, как удаляется гармонь: тише, тише… И нет ничего. Тишина огромная, неподвижная. Все умертвила, приказала: не надейся, ничего не будет… Господи, господи, хоть бы случилось что-нибудь. Хоть бы волки повыли, что ли. Иногда они подходят к околице, воют; тогда мычит и мечется корова и овцы поднимают возню за стеной, во дворе… Да есть ли что на свете, кроме села Сараны? Или мы одни между землей и небом? Голос человечий, запой, закричи или хоть выругайся! Чтоб не так пустынно, не так скучно было Дорофее!
Но вот далеко, далеко, далеко — слышится или мерещится: тук-тук-тук… тук-тук-тук… Может, это сердчишко твое стучит? Нет! Вон опять: тук-тук-тук… — уже отчетливей и ближе. Это поезд проходит за лесом, он еще бог знает где, но идет к нашей станции, я услышу, как он загудит, подходя. В поезде едут люди, всякие люди едут во всякие места, мы не одни на свете! Окна у поезда светлые; свет бежит по снежным лапам елей, протянутым к дороге; бежит, бежит — не поймаешь, не остановишь… Вон загудело: ту-тууу! — легко и неспокойно… Хорошо! Вырасту большая и поеду на поезде…
Кое-что интересное иногда случалось все же. Вот, например, какую однажды историю нечаянно услышала Дорофея, и не про кого-нибудь, а про отца и мать. Бабы, разговаривавшие между собой, не знали, что Дорофея тут, поблизости; а она слушала, притаясь и обмирая. Вы подумайте: мать крысиный яд пила. Из-за отца. Полюбила его, а он жениться ни за что; она и выпей яд. А он был гуляка и изменщик, однако испугался и женился. Дорофея родилась после свадьбы через четыре месяца. «Здорова будет, — заключили бабы, — хорошая порода, ничто их не берет». Дорофея несколько ночей заснуть не могла — воображала, шептала, переживала эту старую историю.
Один раз отец пошел на охоту с Фролом, соседом. Много ли они выпили и из-за чего поссорились, неизвестно, только отец вернулся избитый, в синяках и крови. Мать поливала водой его всклокоченную голову, положила ему примочку к носу и одно сказала: