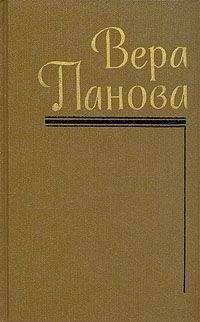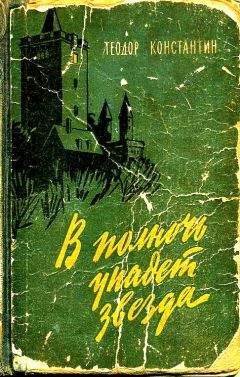Эта зима была тихая, все ворота на запоре, в жарких избах под сугробами мерли от сыпняка люди. Красных было не слыхать, беляки заглядывали в Сараны редко — боялись заразы.
Первое время Евфалия говорила:
— Вот выйдешь замуж — я домой ворочусь.
Домом она называла скит.
А потом сказала соседке:
— Видно, так мне с Дорофейкой и жить. Скит-то красные все одно закроют.
— Когда они еще воцарятся, красные-то, — сказала соседка, — да и воцарятся ли, нет ли, еще чья возьмет.
— Ихняя возьмет, — сказала Евфалия, — недолго уж, везде белякам приходит край.
Соседка покосилась:
— Это кто же тебе сказал?
— А Фрол Одноглазый. Индейка, говорит, моя судьба, только, говорит, и останется — в банду податься, и ты, говорит, Фалька, со мной иди, потому что скит большевики обязательно закроют.
Евфалия всегда говорила ровным голосом, степенно и рассудительно, а глупость из нее так и сочилась, как жир из баранины.
Дорофея спросила ее про полюбовника.
— Был! — с готовностью отвечала Евфалия. — Был, как же.
— И ты его любила?
— А конечно, любила.
— Сильно, сильно любила? — спросила Дорофея и от чувств схватилась за щеки обеими руками.
— Ужасть как.
— И он тебя любил?
— А как же: и он любил.
— И бросил тебя!
— Вот уж неправда: не бросил. Меня Ольга в скит отдала. А он, видишь ты, женатый был, детный.
— А тебе не хотелось в скит?
— Неужли ж хотелось?
— Зачем же пошла?
— Как же не пойти, когда она велела?
Дорофея помолчала, рассматривая тетку.
— А за что ты его любила? — уже без восторга спросила она.
— Дык — мужчина, — сказала Евфалия. — Как не любить?
Дорофея перестала спрашивать. Теткина любовь была неинтересная…
Весной, когда стаял снег и подсохло, она пошла с заступом на погост и привела в порядок материнскую могилу. Могильный холм покривился, осел, выглядел сиротливо и жалко; она набросала на него земли, сровняла, заступом срезала прошлогоднюю бурую траву кругом. Утро было серое, без ветра, сторожкое; на мокрых ветках ивы серебрились проглянувшие барашки; от мокрых веток, от сырой земли шел острый тревожный запах. В каждой жилке своей, в ладных своих движениях, в дыхании Дорофея чувствовала крепость и радость; и томила ее кладбищенская тишина. Ей вдруг захотелось сию минуту куда-то бежать, объявить всем людям, что она живая-здоровая, что ей чего-то нужно — чего, она не знает; может, люди скажут… Она загрустила и задумалась, опершись на заступ. Могила лежала у ее ног. Деревянные кресты, прошлогодняя бурая трава. Ничего-то они не видели, те, что лежат под крестами. Прощайте, мама, бедная вы моя…
За тихими серыми днями пришла настоящая весна, щедрая на солнце и дожди. Девки ходили остриженные после тифа, прятали стыдливо головы под платками, пели про любовь. Дорофея переболела раньше других, у нее волосы уже подросли, кудрявились, нежно щекотали ей уши, от щекотки по телу пробегала теплая волна…
Трава на лугах поднялась выше пояса. Евфалия сказала:
— Шляешься, Дорофейка, на станцию дуриком, безо всякой пользы. Взяла бы косу да накосила где при дороге.
— Нешто дают там косить? — спросила Дорофея.
— Подальше от станции, при дороге, всем дают нынче, все одно красные завладеют, Фрол Одноглазый сказал.
Дорофея взяла косу и пошла на станцию.
Там было пусто, не видать никого. Выглянул телеграфист из окошечка и спрятался… Дорофея пошла вдоль полотна и вышла на широкий луг.
«Накошу, а убрать не дадут, врет, поди, Одноглазый», — подумала она, но все же стала косить.
Трава была сочная, ложилась легко. Медовый запах стоял над лугом; сквозь облако благовонное шла Дорофея. Покачивались кругом красные головки клевера, голубые метелки колокольчиков. Желтая бабочка пролетела перед лицом Дорофеи, часто взмахивая крылышками. Шмель висел над раскрытым цветком, густо гудел, будто возвещал — вот, дескать, как мне хорошо. А наверху было небо, большое, чистое, торжественное, синь и золото лились из него празднично и изобильно. Косить было весело. Не дадут убрать заплачу, что ли. Холера их возьми, чтоб я из-за них плакала. Выросла трава, косить время, я и кошу. Вот хочу — и кошу.
Косила, разгорелась, не замечала ничего. Подняла глаза — глядь, поезд приближается: совсем уж близко подошел, а она не слышала… Тихо шел поезд: какой-то молодой человек смотрел на Дорофею с паровозной лесенки. Лицо красивое; от бровей вниз загорелое, а лоб белый. Непокрытые русые волосы волной, молодецкие плечи…
(А он увидел — и потом любил это рассказывать: на пустынном лугу — ни души кругом — стояла, вся в цветах до пояса, небольшая девушка, — такая, что рисуй картину, и только. «А что, Дуся? Преувеличиваю разве? Очень была хороша. Не красавица, понимаешь? А как объяснить…» Объяснить он не умел; но с умилением вспоминал те жарко раскрытые глаза, радостное ожидание в каждой черте. «И волосики эти из-под платочка — колечками, и колечко играет на ветерке… Не веришь, а я сразу тогда подумал: такую иметь при себе — не соскучишься… Я даже во сне потом тебя видел…»)
Он смотрел на Дорофею, и она на него. Он поднял руку, махнул — и все: проехал. Поворачивая голову, она глядела вслед прикованным взглядом, пока его не скрыл поворот дороги. Тогда уж заметила, что мимо нее плывут тихим ходом товарные вагоны, а в раскрытых их дверях — люди с винтовками. И на многих — буденовки со звездой…
Она села в траву.
Показался и проехал. Куда поехал-то, белым в пасть. Может, и жив не будет.
А и будет жив — больше не встретимся.
А вдруг да встретимся?
Я таких красивых не видела.
Волосы, наверно, мягкие, как шелк.
Лоб белый, а брови в одну полоску.
Потянуло прилечь, она прилегла. Лень вдруг, истома — ни косить, ни идти домой.
Так душисто тут, славно, лежала бы и лежала… Почему так плохо устроено на свете, что я тут, а он показался — и нет его?
Ведь тихо поезд шел. Эх ты, не сообразил, было б тебе соскочить!
Протянула руку, сорвала травинку, прикусила: горько…
Ты моя симпатия.
Попробуй, какая горькая травинка, а цветок сладкий.
Так она шептала и воображала, лежа в траве, от солнца перед глазами плыли черные круги. И воображением разожгла в себе ужасную любовь.
Вернулась домой не скоро, уж солнце спускалось. Тронула ворота заперты. Окошки тоже — наглухо. Заперто, однако, изнутри: значит, Евфалия дома. Дорофея постучалась: ни ответа ни привета. Застучала сильнее, потом, разгневавшись, хватила так, что ворота задрожали. Вышла соседка из ближней избы, сказала, посмеиваясь:
— Напрасно, Дорофея, ворота ломаешь. Не отворит она.
— Как это не отворит? — сказала Дорофея.
— А так. Ты обожди на огороде, а то у меня посиди.
Дорофея молча подняла косу с косовищем, забарабанила в окошко. Сквозь мутное стекло видно было, как по избе метнулся кто-то. Спустя минуты две Дорофея все барабанила — послышался стук засова, Евфалия отворила ворота и сказала рассудительно:
— Что это, как ты тарахтишь, так и окошко недолго выбить.
Дорофея, сильно дыша от гнева, вошла в избу и увидела на гвозде фуражку.
— Это чья же фуражка? — спросила она.
— Ах ты господи, — сказала Евфалия, — Фрол Одноглазый забыл.
Дорофея громко засмеялась и следом заплакала. Она не знала с чего, но слезы полились ручьями. Мечта в ней была оскорблена… Евфалия стояла, открывши рот.
— В око… в окошко выпустила? — сквозь смех и плач спрашивала Дорофея. И вдруг закричала как бешеная: — Ты мне бандитов сюда водить не смей, не позволяю, моя изба!
На другой день пришел в Сараны красный отряд, и окончательно утвердилась советская власть.
Зимой Дорофея стояла на станции в ряду других девок и баб. Воздух был жгуч, как самогон, из ноздрей рвался пар, снег сверкал, скрежетал, взвизгивал. Дорофея была одета тепло: в кожушке, хороших валенках, поверх пухового платка — толстая шаль. К тому же на груди под кожухом у нее была спрятана буханка хлеба — может, случится на что-нибудь обменять, — теплая, недавно из печи, согревала… Корзину с молоком, разлитым в бутылки, Дорофея держала на руке: поставить нельзя — моргнуть не успеешь, схватят; управы на вора искать негде. Бутылки были укутаны тряпьем, чтобы молоко не замерзло.
Из-за сосен, за поворотом, показалось густо-розовое в морозном солнце облако: подходил поезд. Показалась голова паровоза — черная, огнедышащая; бабы и девки глядели навстречу. Ничего неизвестно — может, пройдет мимо, а может, остановится — на пять минут, либо на два часа, либо на двое суток: едет Россия в теплушках без расписания… Поезд остановился, теплушки открылись, из них дохнуло теплом и вонью. Выскочили люди, начался торг.
Всего один пассажирский вагон был в поезде, ближний к паровозу. Из пассажирского вагона вышла молодая городская женщина с голубым чайником; из-под старенького пальто у нее выглядывал белый халат. Дорофея налила ей молока в чайник. За нею подошел какой-то чумазый — лицо в копоти, руки черные. Обтертая кожанка, половина пуговиц оборвана; буденовка надвинута на черный нос. Дорофея подняла бровки, взглядом спросила — чем будешь расплачиваться? Чумазый сунул руку в карман кожанки, показал грязный бумажный ком: дензнаки. Дорофея дала ему бутылку молока. Белыми зубами чумазый вытащил пробку из горлышка и стал пить, закидывая голову. Рука у него была маленькая, шея статная, девичья. И рот, обмытый молоком, был свежий, как у девицы.