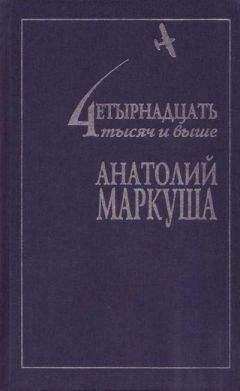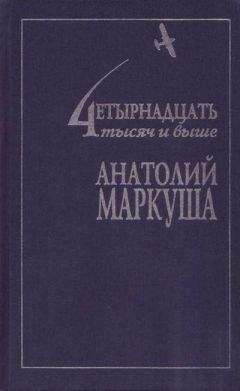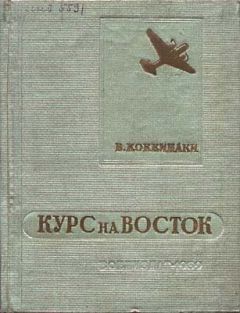Объект нападения — аэродром.
Мы беспрепятственно достигли рубежа атаки, штурмовики с ходу подавили довольно вялое зенитное прикрытие и принялись обрабатывать самолетные стоянки, бензосклады и склады боеприпасов.
Противодействия с воздуха мы не встретили. Подозреваю — они сидели на своих точках без горючего.
Оценив обстановку, Носов вполне разумно подключил свою восьмерку истребителей к атакам прикрываемых штурмовиков. Не везти же обратно боекомплект! Мне с группой приказал ходить над аэродромом. Держаться выше огня и дыма. И всем нам крутить и крутить головами: «мессеров» пока не было видно, но они могли в любую минуту появиться.
Штурмовики и носовская группа работали, как на учебном полигоне: повторяли заход за заходом, методично бомбили и расстреливали цели, привередничая при этом — выбирали, что позаманчивее… Словом, вылет получился. Дай бог, каждый бы раз так.
Наученный опытом, зная, сколь азартен Носов, я нажал на кнопку передатчика и, подражая низкому с хрипотцой голосу командующего, передал:
— Штурмовики, маленькие, всем — сбор! Сбор! Не увлекаться!
Видел, как штурмовики сработали отход, видел, как истребители заняли свое место — на флангах группы, с превышением, и сам уже начал разворачивать свою шестерку к дому, когда мне на глаза попался летевший несколько ниже одиночный «мессершмитт». И еще я заметил — самолет противника перемещался как-то странно: рыскал из стороны в сторону. Но главное, он летел один.
— Остапенко, — передал я по радио, — прикрываешь дальше звеном. Понял? — И, убедившись, что Остапенко меня понял правильно, велел ведомому, молодому пилоту: — Миша, тихонечко топай за мной…
Мы спикировали ниже одиночного, ковыляющего «мессершмитта».
— Пристраиваемся, — сказал я Мише, — ты справа, я слева.
Мы подошли и встали с ним крыло в крыло, как на параде. Немец поглядел на меня с изумлением. Я показал: пошли на посадку! С нами, с нами садиться будешь.
Едва ли он пришел в восторг, но… война шла к концу, а главное, куда ему было деваться в такой ситуации?
По рации было слышно, как штурмовики благодарили Носова за отличное прикрытие, хоть и не от кого их было на этот раз прикрывать. Слышал, как Носов приказал своим ведомым перестроиться для посадки, а еще, как он спросил недовольно Остапенко:
— Абаза где?
Мы подошли к аэродрому, когда Носов начинал третий, предпоследний разворот.
— Внимательно, Миша, — сказал я, — чуточку вспухни… та-а-ак, хорошо. Колеса пока не высовывай.
И показал немцу, чтобы он выпустил шасси. Видел, как он метнул взгляд вправо, но понял: второй русский не ушел, а висит над самой его кабиной, так что, если дернется, угодит под винт… Он выпустил шасси и поглядел на меня вопросительно: мол, что будем делать дальше? Это мне понравилось. Международным жестом всех авиаторов — оттопыренный большой палец над кулаком — я показал: все в порядке, молодец, фриц…
Мы начали снижение. Момент наступал самый-самый: привести мы его привели, но как дальше — уговорим ли сесть?..
— Миша, — передал я, — отстань немного и держи пушку под пальчиком.
— Понял.
— Пока он не выключит двигатель на земле, стереги паразита, Миша.
Все-таки мы благополучно усадили «мессершмитт» на нашем аэродроме. И следом сели сами.
Потом, как всегда, уже ближе к вечеру, состоялся обычный разбор полетов. У меня были все основания ожидать если не восторга, то какой-то похвалы: все-таки не каждый день приводят истребители «языков» в свое расположение. Но все пошло не так, как я мог ожидать.
— Кто тебя дергал за язык объявлять «горбатым» сбор и отход? — игнорируя финал вылета, спросил Носов ворчливо.
— Так ведь по расчету времени… — начал я.
— Или ведущий «горбатых» слепой? Или у меня часов не было?
— Вы увлеклись…
— Молодец, Абаза. В чужом глазу соринку видишь, а в своем бревна не замечаешь! Погнался тихарем за отбившимся от стада фрицем, а группу без спроса передоверил Остапенко. Это порядок? Любишь ты себя показывать… людей удивлять обожаешь. Скажи, Абаза, для чего ты воюешь?
Это было уже слишком. Чувствуя, как кровь пульсирует в шее, под скулами, за ушами, я сказал:
— Для победы, товарищ майор, и больше ни для чего.
— Так ли, Абаза? Ты не станешь обижаться, например, если мы не запишем этого фрица, — он махнул рукой в сторону посадочной полосы, — на твой счет? А рассудим так: прилетел немец сам, снизился сам… и сел — тоже. Верно? А у тебя боекомплект не начат… Согласен? Твое мнение?
— Служу Советскому Союзу, — сказал я. И подумал: ладно, мсти, отыгрывайся, только я виду не подам, не доставлю тебе такого удовольствия. — Мнения, товарищ майор, не имею. Как прикажете, так и будет. Рад стараться. — И приказал себе: хватит! Не переигрывай.
Прошло три дня. Страсти как будто улеглись, обстановка складывалась благоприятная, и я решил сунуться к Носову, попросить разрешения слетать на моем «мессере».
Сначала он сделал вид, будто вообще не понимает, о чем это я. Потом нахмурился и спросил:
— А для чего?
— Как для чего? Для интереса и, наверное, для пользы дела, — сказал я. — Еще Суворов велел изучать противника… Носов не стал спорить, просто отмахнулся от меня:
— Не в моей власти.
— Понял. Разрешите обратиться к командиру дивизии?
— Война кончается, на кой это надо, Абаза?
— Кончается! Тем более надо: после войны уже поздно будет, тогда точно не слетаешь.
— Ты мне хуже горькой редьки надоел, — кажется, всерьез разозлился Носов. — Вечно тебе. Абаза, больше всех надо, всюду лезешь, себя показываешь. Хватит! — И он обругал меня самым примитивным, совсем несвойственным ему образом.
А на другой день неосторожно развернувшийся бензозаправщик зацепил «мессершмитт» за плоскость и вывел машину из строя. Конечно, можно было, не надрываясь, отремонтировать крыло, да кому охота была возиться — война кончалась.
И сегодня жалею — не слетал.
Вообще-то жадность — плохо. Признаю одно исключение: жадность к полетам. Летчик должен летать. Хоть на воротах, хоть на метле — летать! И чем больше, тем лучше.
Скорее всего, это атавизм, так сказать, привет от пещерных предков: обожаю костры и вообще всякий открытый огонь люблю. Могу не отрываясь бесконечно вглядываться в рыжее беспокойное пламя, в раскаленные угли, могу без устали прислушиваться к треску поленьев и воображать — там, в синеватых всполохах среди каскада искр, рождается жизнь! Во всяком случае, я вижу причудливые фигуры, лица в огне и таинственные очертания знакомых предметов.
Первый большой пожар я увидел мальчишкой. Как он начался, не знаю, только когда мы примчались ордой к месту происшествия, старый двухэтажный особняк пылал уже вовсю.
Пожарные были на месте, они суетились, шныряли туда-сюда, а огонь не унимался. Стихия успела набрать мощь и свирепствовала с полным размахом.
На противоположной стороне переулка собралась громадная толпа зевак. Безликая толпа с жадностью впитывала редкое зрелище, охотно комментировала действия пожарных, особенно те, что публике представлялись не вполне или вполне неправильными.
Пожар не утихал.
Мне было страшно и… стыдно. Стыдно за людей — стоят, скалят зубы, чешут языками, и никто не пытается помочь пожарным. Как же так? Нас ведь учили: один за всех и все за одного… А тут? И за себя мне было стыдно: я ведь тоже не испытывал желания лезть в огонь, хотя прекрасно знал, как настоящие пионеры непременно спасают кого-нибудь именно при пожаре. Для совершения геройского поступка пожар — самое милое дело! Но все стояли и глазели.
И я… Как все? Как все, увы.
От мыслей, беспокоивших совесть, но так и не толкнувших на поступок, я отвлекся невольно: на балкон второго этажа выпятился спиной окутанный дымом здоровенный мужик. Судя по его напряженным и низко опушенным плечам, он тащил что-то неимоверно тяжелое, может быть, из последних сил.
Толпа заволновалась, толпа была полна энтузиазма… стали давать советы:
— Заноси, заноси!
— Край пониже! Разворачивай…
А на балконе, медленно разворачиваясь, с помощью второго мужика появился… рояль. Это уму непостижимо, как они сумели вытащить такую тяжесть вдвоем, да еще в дыму, в жарище…
Однако совладали мужики, вытянули, развернули и прислонили к балконным перилам. Постояли, чуть отдышались, еще поднатужились — скантовали и перевалили рояль через перила на улицу.
Треугольный черный ящик тяжко грохнулся в подтаявший снег и жалобно застонал. А мужики еще долго нелепо топтались на балконе, терли кулаками слезившиеся глаза, они едва ли сознавали, что и для чего сотворили…
И мне было стыдно за ополоумевших мужиков тоже.