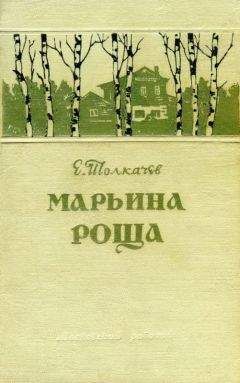— Нашла чему завидовать!
— Я не завидую. Я добьюсь.
— Вот как? Что ж, ты молодец… А мне, значит, советуешь в мастеровые идти?
— Как это в мастеровые?
— Полы подметать? Пыль за тобой вытирать? Черную работу выполнять? Или на машине на вашей учиться чулки вязать?
— Что ж, работа разная бывает… Ты что, сердишься? Я не хотела тебя обидеть… Вот есть работа чистая — на склад, в контору…
— В контору? — задумчиво повторила Валя и замолчала. Потом жалко заплакала: — Вы меня спасли… Я должна все терпеть… конечно, я…
— Да что ты, Валюша, да что ты? — засуетилась Настасья Ивановна, в первый раз в жизни бросив на Марфушу гневный взгляд. — Да никто и не думает этого! Да живи, пожалуйста, как хочешь.
А на улице сказала Марфуше:
— Нехорошо, девка, не ожидала от тебя.
Марфуша промолчала, но на сердце образовался рубчик.
Потом пошли события. Валя искала работу, все не находила по вкусу. Затем объявила: «Нашла» — и поступила в районную студию сценического искусства. С какой гордостью принесла она первый паек, как целовала Настасью Ивановну и даже прохладную Марфушу, как благодарила их за поддержку. Настасья Ивановна расплакалась от умиления, а Марфуша радостно твердила:
— Вот и хорошо! Вот и хорошо!
Занималась Валя по вечерам. Это было даже удобно: днем сидела дома она, вечером — Настасья Ивановна; Марфуша задерживалась до ночи то на учебе, то в завкоме, то по комсомольским делам.
Однажды Настасья Ивановна сказала Марфуше:
— Теплынь-то какая! Знаешь, что я надумала, девушка? Давай переедем в другую комнату, а эту Валюшке отдадим.
— Вот новости! Почему такое?
— Ну как же, ей простор нужен, заниматься. Может, мы ей мешаем?
— Пусть тогда она переходит. Две комнаты пустые, занимай любую.
— Да, знаешь, она привыкла… Это ведь ее комната прежде была…
— Просила? — прямо задала вопрос Марфуша.
— Просила, — опустила голову Настасья Ивановна.
Марфуша пожала плечами:
— Мне-то что, я хоть совсем уйду.
— Ой какая! — вскинулась Настасья Ивановна. — Да что вы друг на друга фырчите, девки?
— Я не фырчу. А разве она…
— Ладно, ладно, давай по-хорошему, Марфуша. Столовая даже еще лучше, с балконом.
— Холод от него, от балкона.
— А мы тряпочкой заткнем, тряпочкой.
— Соглашательница вы, Настасья Ивановна.
— Ты мне, Марфа, таких слов не говори! Я не соглашательница, я — рабочая. И муж мой был рабочий, и сын рабочий…
— Милая моя, Настасья Ивановна, простите вы меня! Ничего я плохого не хотела… Пошутила я словом-то.
— Не всяким словом шути. Это слово позорное.
Когда Настасья Ивановна пришла в домком оформлять переселение жильцов в квартире, сонная домкомша на все согласилась, только предупредила:
— Намаетесь с отоплением. И ремонту никакого не будет.
— Да мы как-нибудь…
— Ваше дело… Постой, твоя фамилия, значит, Талакина?
— Талакина.
— Как будто письмо тут тебе было. Давно валяется. — Она пошарила в ящике. — Или не было? Чтой-то забывать я стала… А может, куда бросили? Давно будто лежало… А может, и не было…
Никакого письма не нашлось.
Как-то весной Настасью Ивановну вызвали в проходную:
— Тетя Настя, там тебя какой-то молодой человек спрашивает.
Захолонуло сердце. Схватила за руки девушку:
— Какой, какой?
— Что ж я его — рассматривала? Худой, хромает.
Не помня себя бежала Настасья Ивановна. В проходной — Ваня Федорченко. Вырос, все такой же худой, щеки ввалились, но веселый.
— Милый ты мой!
— Успокойтесь, Настасья Ивановна, голубушка! Сядем, а то мне…
— Вот сюда, сюда, на скамеечку…
— Как хорошо, что я вас увидел. Вас Леша разыскивает…
— Ах! — И клонится, клонится к полу женщина.
— Помогите! Ей плохо!
— Нет, ничего, ничего, — шепчет. — Леша! Сынок!.. Ну, говори, говори…
— Успокойтесь, Настасья Ивановна.
— На-ка воды, тетя Настя… Поддержи ее, Саша.
— Ничего, ничего, девушки, милые… Сын, сын нашелся… — И слезы и вода капают с подбородка.
Вечером вместе сочиняли ответ Леше.
«Милый друг Леша! Пишу тебе, а рядом сидит твоя мама, Настасья Ивановна. Она вполне здорова, каждый день, каждый час вспоминает тебя, велит написать, что всегда верила, что ты жив, и ждала тебя. Теперь ты тоже можешь успокоиться. Что касается твоих писем, то она ни одного не получила, должно быть, пропали в пути. Ну, все это позади, она ждет тебя, обнимает и плачет от радости.
О бывших друзьях знаю мало. Володя Жуков года два назад уехал, Ваня Кутырин тоже. Сережа Павлушков служит в Красной Армии, изредка пишет матери, что жив. Хуже с Петей Славкиным: он попался на какой-то нехорошей истории в темной компании. Я служу, учусь понемногу, хотя занятия сейчас идут трудно. Отец мой постарел, но бодрится, работает с упоением; его выдвинули по общественной линии, он очень этим гордится. Мать прихварывает, но по-прежнему заботится о нас. Тебя хорошо помнит, шлет тебе свой материнский поцелуй. Напиши, как ты, где, кем… Ждем.
Две матери и верный друг Ваня».
* * *
Во двор вошел военный. Его суконная буденовка видала виды. Обмундирование чистое, ладное, в петлицах — кубики, а на груди — какой-то диковинный орден вроде звезды. Военный осмотрелся и неуверенно пошел к покосившемуся крылечку двухэтажного серого домика, ткнулся в дверь нижней квартиры, увидел замок и замер в раздумье. Сверху послышался топот босых ног, свист, и по перилам прямо на военного съехал встрепанный паренек.
— Ну, здравствуй, — серьезно сказал военный.
— Здравствуй, — ничуть не удивился паренек. — Ты к кому?
— Павлушковы здесь живут?
— Это бабка-то? Здесь. Только ее нету.
— Где ж она?
— А в кооперативе.
— Служит там?
— Ну да… А что это у тебя на груди такое?
— Это орден, брат. А дедка жив?
— Какой дедка?
— Павлушков, Сергей Павлович.
— Эка хватился, давно помер.
— А как давно?
Парень что-то посчитал, потом сознался:
— Не знаю. А зачем он тебе?
— Как бы мне бабку повидать?
— Зачем тебе бабку?.. А как твой орд… ордер называется?
— Называется Красное Знамя… Где мне все-таки бабку найти?
— Я ж тебе толкую, что она в кооперативе. Позвать, что ли?
— Вот хорошо бы.
— А дашь ордер посмотреть?
— Смотри, только снимать не буду, он привинчен.
— Ишь-ты… не по-русски написано…
— Ну конечно. Это орден азербайджанский.
— Какой, какой?
— Азербайджанский. Есть за Кавказом такая страна. Там добывают нефть, ну, керосин… Захватили было страну иностранцы, но мы их прогнали.
— За это тебе и ордер дали?
— За это. Ну, дуй за бабкой!
— Я мигом.
Действительно, он скоро вернулся. За ним шла еще бодрая, крепкая женщина. Она посмотрела на военного и неласково спросила:
— Вам кого?
— Мама! Это я, Сережа.
Женщина недоверчиво осмотрела его, покачала головой, подумала и сказала:
— Панька, беги в лавку, скажи Софье Митревне — сын прибыл. Заходи, Сережа.
Вся мебель была снесена в одну комнату и громоздилась хаотически. Остальные три комнаты пустовали. Там обильно развелась паутина и всякий мусор.
— Отбирать хотели, — пояснила мать. — Пусть отбирают, куда мне? Только никто не идет отбирать-то.
Сережа не знал, куда положить снятую буденовку, подумал и взял под мышку:
— Когда умер отец?
— На Покров три года будет. Вскоре как ты уехал, мы лавку бросили, он заскучал и помер.
Помолчали.
— Как же вы живете, мамаша?
— Работаю в кооперативе на Шереметевской. Уборщицей. На питание хватает… У хлеба живем. Кое-что продала. Я, Сережа, человеком стала, как с лавкой развязалась, а то сумасшедшая была. Помнишь?
— Помню. Верно, лучше выглядите, хотя и постарели.
— Хочу я, Сережа, вещи отсюда выкинуть, а то душно. Куда они?
— Правильно, мамаша, — усмехнулся чему-то сын.
— А что ж? — вызывающе протянула мать. — Нельзя, что ли? Да я всю эту требуху подожгу! И никого не спрошу, да!
— Да жгите на здоровье, — равнодушно ответил сын.
Снова помолчали.
— Что же вы не спросите обо мне, мамаша?
— А что спрашивать? Вижу. Здоров, слава богу, советский мундир носишь. В партию-то записался?
— Нет.
— Что ж так? Кто половчее, все туда норовят.
— Значит, я не ловкий, мамаша…
— Ты надолго в Москву-то?
— Учиться, мамаша. Не знаю, как придется.
— Я к тому, что не знаю, куда тебя поместить. У меня, видишь сам, что творится… И вообще нельзя… Я… это… как тебе сказать?.. Ну, ты не маленький… понимаешь, замуж я вышла.
— Замуж?
— А что, нельзя?
Снова помолчали.
— Так я пойду, мамаша.
— Что ж, иди. Заходи когда… Ты вот что: сходи к товарищу своему, ну, хромой… как его… Ванька, что ли. Я его намедни видела.