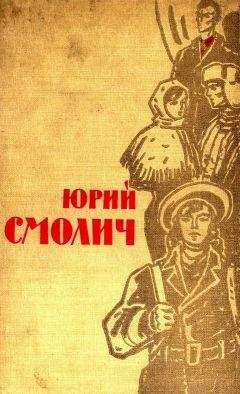Ведь всем было известно, что началась новая эра, и в новой эре и театр должен быть новым, не похожим на старый, каким-то другим. Но каким?
«Революции — революционное искусство!» — таков был новый лозунг, который возник теперь на смену фронтовому призыву: «Искусство на службу революции!»
Что такое революция — знали все, но что такое революционное искусство — этого не знал никто. Луначарский писал страстные статьи; Маяковский гремел сквозь окна РОСТА; Демьян Бедный сеял частушками; Пролеткульт разрастался тысячами ячеек; Мейерхольд ставил «Землю дыбом»; Евреинов проповедовал театрализацию жизни; Курбас в театре «Березиль» соединял театр с цирком; чуть ли не каждое учреждение, даже гужтранспорт, создавало свои театральные студии; непонятное, страшное к ночи словечко «биомеханика» передавалось из уст в уста — все были взбудоражены, возбуждены и растеряны. А наш театр еженедельно давал новую премьеру — Шевченко, Бомарше, Ибсен, Софокл, Тобилевич, Мольер, Андреев, Леся Украинка, Горький, Жулавский, Гуцков, Мирбо, Лопе де Вега, Уайльд, Пачовский, Гауптман, Гоголь, Гольдони, Винниченко. И актеры всё подряд играли «на пупа» — в бешеном темпе, на душераздирающем крике; даже ибсеновские «Привидения» мы играли форте-фортиссимо, так как театр был глубоко убежден, что он есть театр героики и героический стиль в искусстве и есть художественный «эквивалент» современности.
А впрочем, актер нашего театра и не задумывался много над своей игрой и над проблемами стилей, он играл так, как привык играть на открытых площадках, где-то сразу же за линией фронта, силясь перекричать стрекотание пулеметов и пушечную пальбу. С того времени голоса у всех наших актеров охрипли, хронический катар был приобретен на всю жизнь. Борьба идей, соревнование между традициями реализма, романтизма и психологизма в театре происходили скрытно, подсознательно в каждом актере. Ведь сегодня надо было играть в «Суете» Тобилевича так, как играли еще деды; завтра в «Мысли» Андреева — лишь бы не так, как играли на провинциальной русской сцене; послезавтра «Свадьбу Фигаро» — лишь бы не так, как об этом читали в старых театральных журналах. А ведь еще надо было играть и «Фуэнте Овехуна» или «Лорензаччо» — уж совсем неизвестно как. Эклектика театра начиналась в самом его репертуаре. Переводной западный репертуар, который наводнял театр в порядке «героического эквивалента», все эти «Герцогини Падуанские», «Йолы», «Лжемиссии» и т. п., яростно сопротивлялись «психоложеству», псевдопсихологизму винниченковских «Черных пантер», «Грехов» или «Базаров» в сознании каждого актера. И в сумбуре всех этих неосознанных или даже осознаваемых влияний актер начинал уже вообще отрицать пьесу как основу спектакля. «Революционный театр должен начаться с театра импровизации!» — так заявляли самые горячие головы.
Что касается меня, то на первых порах меня удовлетворял уже один тот факт, что я служил не в мелкой халтуре, а в большом, настоящем театре, где, пусть и не широко, во всем коллективе, то хотя бы в тесном кругу, вот здесь, в подвале кривого Джимми, обсуждаются и дебатируются судьбы будущего театра. Я вообще был профан, и у меня еще не успело сложиться мое собственное мнение о театре и путях его развития. Мне импонировали сами по себе споры — даже тогда, когда они были чистейшей софистикой. Я жаждал спорить, жаждал слушать разные мысли, разные мнения. Кроме того, мне импонировало и другое. Наш театр — это был театр ансамбля, а не индивидуальной игры, театр спектакля, а не одного персонажа, театр актеров, а не одного премьера. А ведь я мечтал именно об этом с самых первых шагов на сцене. И потому с особенной радостью я выполнял порученные мне роли в ансамбле.
Но удовлетворенности моей пришел конец, когда мне пришлось сыграть большую роль. Это была роль Колонна в «Монне Ванне» Метерлинка. Эту прекрасную роль я провалил виртуозно. И та же самая газета, которая расхваливала меня за исполнение Лизогуба в «Солнце руины», называя меня чуть ли не гением, за исполнение роли Колонна обозвала меня чуть ли не бездарностью.
Однако в действительности дело обстояло хуже. Я не был бездарностью, но я не знал, как надо играть!
Я умел выйти на сцену и на протяжении всего спектакля интуитивно держать общий тон; я умел своевременно подать реплику и заполнить паузу, если такая случалась непредвиденно; я умел удачно копировать слепых, глухих, гнусавых и заик; уверенно владел моим довольно правильно поставленным голосом. Я постиг всю внешность актерского пребывания на сцене, но я не знал, как надо играть.
— Как надо играть? — спрашивал я моих товарищей еще ранее, там, в тех труппах, где начиналось мое актерское существование.
— Как все играют, — отвечали мне они, пожимая плечами.
— Как надо играть? — спрашивал я теперь моих новых товарищей, актеров большого, настоящего театра.
В ответ мне рассказывали, как играл такую-то роль Кропивницкий, Садовский, Саксаганский или еще кто-нибудь из корифеев. Но это были только рассказы об их таланте, а не раскрытие самой системы актерской игры.
— Как надо играть? Что надо для этого человеку-актеру? — обращался я с этим же вопросом и к герою-любовнику, Василию Ивановичу Кобцу.
Герой-любовник Василий Иванович Кобец становился в позу Уриеля Акосты в сцене проклятия в синагоге:
— Человеку надо, чтобы он был сыт, пьян и нос в табаке. А актеру нужна роль! Коль скоро он имеет роль, то он согласен всю жизнь есть суп из семи круп!..
Как надо играть — этого, очевидно, никто не знал.
И у нас было достаточно времени, чтоб по поводу этого сетовать в подвале кривого Джимми. Ведь больше нам нечего было и делать: сезон закончился преждевременно и на полтора месяца театр остался без ангажемента.
Подвал кривого Джимми распродал все, что имел, и перешел исключительно на кипяток с сахарином. Когда мы выползали из подвала на свет божий, то даже слабенький мартовский ветерок валил нас с ног. Голод давал себя знать, мы отощали. Лишь изредка случался праздник — нас подкармливало благотворительное общество, наделяя изредка кулечком маисовой крупы и банкой соевого молока.
Тогда по утрам и появлялся Василий Иванович Кобец.
Это была колоритная фигура. На нем были роскошные белые суконные брюки и потертый на швах, ветхий, но элегантный пальмерстон. Сверх пальмерстона он натягивал еще грязную обтрепанную солдатскую шинель, а на голову — суконную каторжанскую шапочку. Больше у него ничего не было. Но зато он обладал чудесным баритоном и даже в будничной обстановке не говорил, а вещал велеречиво, с трагическими модуляциями в голосе. Когда он приходил — не приходил, а появлялся на пороге, — я обычно лежал на своем снопе соломы с бумагой и карандашом в руке. Я тайком писал стихи, Кобец останавливался надо мной в позе царя Эдипа перед народом.
— А дон Померанцо все пишет и пишет! — После красноречивой паузы он печально заканчивал: — И черт его знает, когда ж он напишет…
После этого мы усаживались на пол вокруг пенька и принимались за галушки, состряпанные из муки «АРА». Кобец самолично умудрялся съесть полведра. Когда ведро опорожнялось до дна, Василий Иванович поглаживал пальмерстон в том месте, где был живот, и произносил с жестикуляцией кабальеро из «Мирандолины» Гольдони:
— Теперь я кум королю и брат солнцу!
После этого он подходил к окну и смотрел на помойку.
На третье — банка из-под какао Арутянова и косточки «дамских пальчиков» из квартиры номер один.
И он начинал насвистывать, пристально всматриваясь в окно. Это среди свежего мусора он замечал отрывок контокорренто с неровными рядками нот из нового, только что созданного и забракованного самим же автором, конторщиком-композитором, опуса.
После того мы заваливались на солому и декламировали стихи Есенина, Маяковского, Блока, Олеся и Тычины.
Спали мы — для экономии сил и чтобы не хотелось есть — днем, а ночью предавались спиритизму.
Мы расстилали большой лист бумаги с аккуратно вычерченным кругом и старательно выписанной азбукой. Пальцы рук соединялись над фарфоровым блюдцем, и блюдце послушно бежало, отмечая буквы, слоги и слова. Мы вызывали Наполеона, Савонаролу, Гуса, Спинозу, Достоевского. Какие речи они произносили при помощи чайного блюдца! Про жизнь и смерть, про небытие и бессмертие, про любовь и ненависть, про богатство и безденежье. Они рассказывали о прошлом, предсказывали будущее, угадывали на завтра погоду.
Однажды мы решили вызвать Коклена. Надо было посоветоваться о всяких театральных делах. Блюдечко долго не хотело слушаться нас. Но потом все-таки оно пошло по кругу, быстрое и проворное под руками. Оно подбежало к букве «К», потом к букве «О». Наши сердца остановились. Сейчас с нами будет говорить сам великий Коклен! Но блюдечко покрутилось некоторое время и остановилось против буквы «Т» и «Р»…