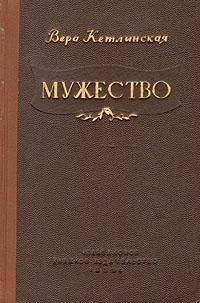Все дело в том, что с газом нужно обращаться деликатно. Не на ты, а на вы.
Прислушался — ровное гудение.
— Хорош! — крикнул он и медленно пошел прочь, мельком заметив, что ноги стали ватными, а лоб и шея — в поту.
— Вот в чем и была ошибка, — сказал он Липатову. — Надо сперва продувать паром и затем подавать дутье постепенно.
Они пошли к Саше, на пульт управления, и занялись показателями процесса, не считая нужным возвращаться к тому, что пережили.
— А Никита — молодец! — в середине обсуждения сказал Палька. Теперь ему ясно представилось, как из группы растерявшихся людей выбежал Никита, как он пробежал мимо убитого Феди Голь, мимо ослепшего Сверчкова, пригнув голову под огненными брызгами. Как он глотнул воздуха побольше, бросился в огонь, схватился голыми руками за нагревшийся штурвал и начал крутить его вправо, вправо, вправо, перекрывая дутье…
— Ого, вот это показатели! — воскликнул Саша, не отрывавший глаз от самописцев.
Палька кинул взгляд на показания, улыбнулся и притянул к себе графин.
Стакан куда-то запропастился, он начал пить из горлышка. Вода стекала по подбородку, горлышко было неудобное. Но он выпил всю воду, сколько ее было.
— Схожу к ребятам, расскажу, — вслух подумал он. — Сверчок обрадуется.
Больница всегда внушала ему страх, а теперь — больше, чем обычно. Белая безглазая мумия, лежавшая на одной из коек, заставляла его содрогаться от ужаса и жалости.
Выдержка Сверчка, его оживленный голос были непостижимы. Палька не знал, как держаться с ним, — проявлять сочувствие или делать вид, что все в порядке.
Инстинктом он выбрал лучшее — докладывал обо всем, что происходило на опытной станции. Никиту это не интересовало. Работает станция, и ладно, только взрывов больше не устраивайте. А Сверчку нужно было знать все, Палька отчитывался перед ним, как перед дотошным начальством, по всем показателям. Сверчок имел на это право. И Палька заставлял себя приходить ежедневно.
Здесь он встречался с Клашей.
Решение, принятое ранним утром в Москве, оказалось легкомысленным и несбыточным. Но именно потому, что теперь об этом и думать было стыдно, мысли о Клаше стали неудержимы, они всегда были с ним, тревожа и мучая, и нужны были все силы, чтобы держаться, держаться, держаться…
Поняв, в какие часы бывает Клаша, он переменил час, но и Клаша переменила — так уж выходило, что они сталкивались у постели Сверчка. В такие минуты Сверчок держался еще веселей — до ужаса. Палька спешил уйти, оставить Клашу с ним вдвоем. Но Сверчок говорил дребезжащим голосом:
— Ну, чего спешишь? Я теперь провожатый плохой. Будь другом, проводи Клашеньку, ведь темнеет уже!
Откуда он знал, что темнеет?
— Я еще не собираюсь уходить, Степа, — говорила Клаша, — чего ты меня торопишь?
— Сейчас начнутся вечерние процедуры, тебя выгонят.
Они уходили вдвоем и шли по сумеречным улицам, сохраняя между собою дистанцию в добрый метр. Они говорили о Сверчке, обсуждали, поможет ли ему Филатов.
И однажды Клаша сказала, опустив голову:
— Если он ослепнет, я его не оставлю.
После этого они долго молчали. Наконец Палька спросил самым безразличным тоном, на какой был способен:
— У вас все уже было решено?
— Нет, — быстро ответила Клаша. — И не могло быть решено. Я сказала — если.
— Степа не тот парень, чтоб принять жертву.
— Он никогда не почувствует жертвы. И с ним всякая девушка… Он такой хороший!..
— Да, — подтвердил Палька.
Они подошли к ее дому. Несколько метров от угла до ее двери были самыми трудными. Палька заставлял себя не замедлять шаги, не топтаться на месте, а дружелюбно попрощаться и уйти. Обычно это удавалось, но сегодня, чтобы отвлечься от того разговора, он начал рассказывать ей о московских друзьях, о стихах поэта Тихонова…
— Я знаю их, — сказала Клаша. — «А ты забыл, что хмур и сед и что тебе не двадцать лет…»
И тогда он сказал:
— Но нам-то двадцать! Давай прогуляемся немного.
— Мне еще к семинару готовиться, — ответила Клаша, — и прошла мимо дома, припоминая разные стихи, и произнесла две изумительные строчки:
Так мужество по-новому встает,
Когда к нему приходит испытанье.
Рассказать бы ей, как он недавно стоял один возле скважины, положив руки на штурвал и зная, что держит в руке жизнь или смерть… Нет, получится похвальба.
Они еще долго бродили по тихим улицам, открывая все новые совпадения вкусов и мыслей.
Прощаясь, он спросил:
— Ты когда завтра придешь?
— Как всегда. А ты?
— И я.
Но на следующий день он не увидел Клашу. Сверчок как бы между прочим сообщил, что она приходила днем и читала вслух.
Палька вышел с ощущением пустоты. Прошел мимо ее дома — в окне не было света. Занята вечером? Нет, не захотела. Из-за Степы. Но это же невозможно! После вчерашнего вечера он твердо знал, что это невозможно.
Подходя к своей калитке, он услышал в палисаднике два детских голоса — ломкий, захлебывающийся голос Кузьки и другой, звонкий, с замираниями.
— …А оно ка-ак ахнет! Ка-ак рванет из-под земли! Всю надстройку на полкилометра кинуло!
— А он?
— А он кинулся прямо в огонь, хвать за рычаг — и отключил дутье. Руки — как нет их, все сквозь прожжены!
— А иначе все взорвалось бы?
— Все!
Звонкий голосок сказал с непреклонной убежденностью:
— Он самый замечательный, я еще тогда видела.
Палька узнал этот непреклонный голосок. Но откуда она — здесь?
Две фигурки поднялись ему навстречу со скамьи.
— Здравствуйте, Павел Кириллович, — тоном воспитанной девочки произнесла Галя Русаковская и вытянула из кармана маленький душистый конверт. — Мама прислала.
— Ничего не понимаю. Откуда вы здесь взялись?
— А мы с папой. На защиту и консультации.
— И ты на защиту и консультации? Тебе, по-моему, в школу ходить полагается. — Палька разглядывал конверт и принюхивался к запаху знакомых духов. — И надолго вы сюда?
— На пять дней. А меня взяли, потому что бабушка со мной не может справиться.
— Похоже. А ну, Кузь, проводи эту девицу до трамвая!
Галя чинно попрощалась, как полагается образцовой девочке, но выбралась из палисадника по-своему: не в калитку, а через нее. Судя по удаляющимся голосам, к трамваю они не спешили.
Павел Кириллович! Мне нужно вас видеть! Буду ждать в сквере возле театра от восьми до половины девятого. Надеюсь, вы меня узнаете?
Т. Н.Было без четверти восемь. Если удачно попасть на трамвай, можно поспеть до половины девятого… Но зачем?
Приехала на пять дней, заскучала возле ученого мужа и вздумала возобновить старый флирт? Дудки! В сквере возле театра нас не будет. Можете злиться сколько угодно, а мы займемся делом. Где у меня старый учебник сопромата?..
Сегодня утром Маркуша предложил ставить на головках скважин заглушки. Как это говорил профессор-сопроматчик: «При приложении усилия рвется там, где тонко»? Маркуша сказал: «Значит, давай сами создадим это „тонко“; пусть рвется там, где нам выгодно. На верху головки поставим тонкую заглушку из менее прочного материала, скажем, из алюминия или дюраля».
Палька разыскал потертый учебник, нашел таблицы сопротивления материалов. Сопротивление на разрыв у алюминия намного меньше, чем у железа…
Он припомнил, как студентами они испытывали на разрыв на специальном прессе разные материалы. Зажатый в кулаках столбик металла недвижим, а стрелки подскакивают выше, выше, выше и — трак!
Он думал именно об этом, но перед глазами вдруг возникла женщина в черном облегающем пальто, в маленькой шляпке, открывающей волнистые рыжие волосы. Такая, какой она была однажды на московской улице, — небрежно простилась и вошла в трамвай, даже взгляда не бросила. А теперь ходит, ждет.
— Павлуша, ужинать!
Мать сунулась в дверь, он огрызнулся:
— Ты же видишь, я работаю. Сколько раз просил — не сбивай!
Половина девятого. Она ходит по круговой дорожке, прикидываясь, что никого не ждет. Каблучки столбиками, при каждом шаге пристукивают. Ну и пусть ходит, пристукивает.
Занятно, как все улетучивается! Год назад помчался бы опрометью…
Четверть десятого. До чего душно в комнате!
Он вышел на крыльцо, закурил, понаблюдал, как из-за копра вылезает скошенная набок луна. Совсем недавно, ранним утром в Москве, над Телеграфом, висел тонюсенький бледный рожок. А теперь вон она какая… Еще один-два дня, и округлится совсем, как в ту давнюю ночь в степи…
Когда он вернулся в комнату, было без двадцати трех десять. Даже если бежать бегом к трамваю и от трамвая, доберешься до сквера в одиннадцатом часу. Она давным-давно ушла. Готовит супругу ужин, от злости бренчит посудой.