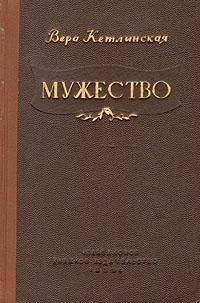Ночь холодная, а в комнате нечем дышать.
Он нажал на разбухшие створки окна и распахнул их — прямо в темноту, пронизанную косыми полосами лунного света. И в этом свете увидел ее, как живую, — голубоватая от луны, стоит за калиткой и улыбается. Почудится же такое!
Но она не собиралась исчезать. Она открыла калитку, нащупав рукой щеколду, и зашагала к нему сквозь полосы лунного света, заложив руки в карманы широкого светлого пальто, пригнув голову в светлой шапочке, похожей на шлем.
— Почему вы не пришли? — спросила она так, будто они виделись вчера или сегодня днем. — Я ждала вас больше часу. Дайте же руку! — Она запросто перебралась через подоконник. — У вас такое лицо, словно я спустилась к вам с луны по веревочной лестнице.
У нее был очень деловой вид — в шлеме, руки в карманах. А он никогда еще не терял дара речи так безнадежно, никогда не был так неуклюж.
Татьяна Николаевна сама прикрыла створку окна, села у стола, свободно положив ногу на ногу.
— Так почему же вы не пришли?
Из всех возможных ответов он выбрал самый нелепый:
— Я все равно, вероятно, не успел бы.
— Допустим! Так вот, милый, безукоризненно вежливый Палька Светов! Известно вам — или неизвестно, — что послезавтра к вам приезжает разгромная комиссия наркомата?
— Н-нет.
— Приезжает. Насколько я поняла, отвратительная по составу и по цели. Олега Владимировича тоже включили, узнав, что он будет в Донецке.
Это было настолько серьезно, что он сразу забыл смущение.
— Вы не слыхали, Татьяна Николаевна, кто там еще?
— Слыхала и постаралась запомнить: кроме Олега Владимировича, там профессора Вадецкий и Цильштейн, инженер Катенин — его взяли как специалиста по технике безопасности. Здесь к ним подключатся местные профессора. Во главе — новый замнаркома Клинский.
— Так. А цель?
— Как я поняла, они хотят сменить руководство станции и отдать вас под суд в связи с этой… с этим несчастьем.
— Судить и надо, — грустно сказал он. — Федю Голь уже никто не вернет. А Сверчков… если он останется слепым — разве я сам себе прощу?
Татьяна Николаевна встала и погладила его по волосам.
— Этого можно было избежать?
— Нет. То есть… Теперь-то мы знаем, что нужно сперва продувать паром. На днях я повторил ту же операцию, и все сошло хорошо.
— Повторили?
— А что было делать? Когда идет опыт, без риска нельзя.
— Вы… сами?!
— Что же, по-вашему, рабочего послать, а самому спрятаться? Новую прививку врачи испытывают на себе. Иной раз и помирают.
Она снова провела рукой по его волосам, навертела на палец и подергала ту прядь, что всегда выбивалась на висок.
— Мне пора. Выходить будем через окно?
Перелезая через подоконник, она не забыла показать свои красивые ноги. И пошла впереди него, руки в карманах. Луна посверкивала в ее волосах.
Она снова была — ненаглядная. Ненаглядная, которая пришла к нему сама.
Он придержал калитку.
— Скажите… почему вы пришли? Я поступил как последний хам, вы прождали час — и пришли. Почему?
На ее голубоватом лице промелькнуло знакомое выражение не то ласки, не то насмешки.
— Я бываю легкомысленной… но я ненавижу подлость. Я подумала, что за сутки вы как-то подготовитесь. И если нужно подсказать Олегу Владимировичу…
— Пусть будет объективен и честен, вот и весь подсказ!
— Честности его учить не надо. Но бывает, что нужно понять какие-то хитрые ходы и неизвестные обстоятельства…
Нет, он и теперь не хотел ни в чем зависеть от ее мужа, какие бы ни грозили хитрые ходы.
Он отпустил калитку — и она быстро зашагала по улице. Ему всегда нравилась ее легкая, летящая походка. Он позволил себе поглядеть ей вслед, потом догнал и взял под руку. Ему хотелось сказать ей, что она хорошая, лучше, чем он думал, но вместо этого не без насмешливости спросил:
— Говорят, вы увлеклись производством алюминия?
— О-о, нисколько! Меня увлекает другое. Должно быть, во мне пропадает творец чего-то… хотела бы я знать — чего!
— Так узнайте, найдите, схватите! На кой черт пропадать?!
— Это не так просто. — Она помедлила и продолжила другим, кокетливо-беспечным тоном, который он ненавидел: — Вы понятия не имеете, как очаровательно… и как ужасно быть женщиной!
— Ничего подобного! Это зависит от…
Но она не захотела узнать, что от чего зависит. Она заговорила об Александрове и Трунине, передала от них приветы.
— Что Женя… поладил с вашим супругом? Ушел на завод?
— Ох, нет! Ссорятся, мирятся и снова ссорятся.
— На кой дьявол задерживать человека, если его тянет?
Она нашла нужным заступиться за супруга:
— Он считает Женю талантливым. И очень любит его.
— Те, кого Олег Владимирович любит, должны отказаться от собственной жизни?
— О-о-о!
— А что, в самом деле! Вот вы, например…
Она резко отстранилась. В неверном свете луны не разобрать было выражения лица — гнев? Или горечь? Или обида?
— Что вы знаете о жизни? Да еще женской! — воскликнула она и пошла дальше, на ходу роняя отрывистые фразы: — Когда мы очень молоды, мы хотим всего-всего!.. А потом вдруг покажется, что все-все — в одном человеке. Сами отказываемся от всего остального!.. Добровольно — значит, наиболее прочно!.. А если эта жизнь еще и легка, и счастлива!.. И все же все-все не вмещается!.. Никак!.. Конечно, просто рассуждать, когда двадцать лет и ничем не связан!.. — Она вдруг оборвала речь и деловито пригляделась, есть ли на кольце трамвай, и заторопилась. — Вы бы поддержали под локоток, мои каблуки не приспособлены к таким дорогам. — Она еще что-то болтала и снова подшучивала, но его уже не мог обмануть этот прежний, обманный голос.
У гостиницы он потянул к себе ее руку:
— Дайте поцелую. Вы сегодня заслужили.
Она промолчала, только поглядела, широко раскрыв глаза.
В ту минуту, когда он поднес ее руку к губам, он увидел Клашу.
Клаша шла в группе комсомольцев, зажав под мышкой учебники. Наверно, с семинара. Она заметила две фигуры на широких ступенях гостиницы, — еще бы, полный свет, как на выставке! — запнулась и встретилась взглядом с Палькой. Палька отпустил руку Татьяны Николаевны, так и не поцеловав ее. Клаша отвела взгляд и быстро прошла мимо, в нескольких шагах от злосчастных ступеней.
— До свидания! Спасибо!
Он умчался прежде, чем Татьяна Николаевна ответила. Пробежал по улице, надеясь догнать Клашу, но Клаша куда-то исчезла. Поискать? Добежать до ее дома? Но как объяснить ей — и позволит ли она объяснять? У нее бывает этакое замкнутое лицо и авторитетный голосок: «Мне совершенно неинтересно, кому и почему ты целуешь руки, это — твое личное дело».
Новость насчет комиссии неизмеримо важней и срочней всяких объяснений, кому целовал, зачем целовал… До того ли сейчас!
Он побежал к театру — там иногда удавалось подхватить «левака». Как назло, ни одного. До опытной станции — девять километров. Можно дотопать за час.
Он купил в киоске две черствые булочки и, на ходу утоляя здоровый голод человека, оставшегося без ужина, развил максимальную пешеходную скорость.
Всеволоду Сергеевичу Катенину очень не хотелось ехать в Донецк. В поспешности и нарочитости создания такой большой и грозной комиссии было что-то стыдное. Колокольников вызвал Мордвинова в Москву, не предупредив его, что он разминется с комиссией! Алымов неожиданно для всех полетел в Кузбасс, где инженеры одной из шахт сами провели какой-то опыт подземной газификации. Видимо, дни «вихрастых» сочтены? Хорошо бы не участвовать в последнем акте…
Но в поезде, где он заодно с профессорами попал в международный вагон, Всеволод Сергеевич сразу успокоился. Грозный Клинский оказался культурным, деликатным человеком, он был взволнован главным образом «смертоубийственной неосторожностью» молодых руководителей станции № 3. Вадецкий отдавал должное молодежи, но считал, что на данном этапе во главе должны стоять более квалифицированные, зрелые работники. Олесов соглашался с ним. Арон… Арон за последний год постарел, как-то увял и был углублен в свои раздумья.
Вечером, закрыв купе, Арон вдруг сказал:
— Говорят, есть тысячи способов быть подлецом и только один способ быть честным.
Настольная лампа оранжевым светом освещала его постаревшее лицо и отражалась в больших потускневших глазах.
— Арон… ты думаешь?
— Я не о том. Тут задача ясная — разберемся и решим по справедливости. Я о себе.
— У тебя что-либо неладно?
На вокзале Арона провожала жена, они простились очень ласково. Всеволод Сергеевич еще порадовался — слава богу!
— У меня как раз все ладно, до предела честно и ладно, — проговорил Арон и закурил, чего раньше, кажется, не делал. — Вот ты, Всеволод, осуждал меня. Я и сам осуждал себя… Но я… я ее любил. С нею я чувствовал жизнь. Биение жизни. Ты знаешь это состояние, когда все напряжено и все прекрасно? Может, это невероятно, я старше на восемнадцать лет, но она тоже… любила. Любила и потому соглашалась на всю мучительность тайных отношений.