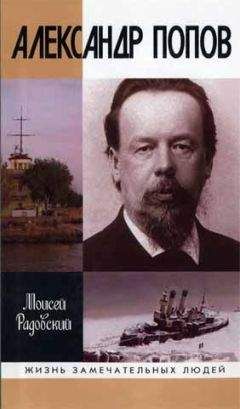Ознакомительная версия.
Она два раза бросалась к двери, но Витя молча стоял на дороге, она не решилась его толкнуть. Потом она тихо плакала на диване. Витя видел в окно, как ушел в город автомобиль, и только тогда сказал:
– Ты зря плачешь, теперь все будет хорошо.
Она притихла, начала вытирать слезы, но вошел Захаров, и она снова зарыдала. Потом вскочила с дивана, сдернула с себя берет, швырнула его в угол и закричала:
– Советская власть! Где Советская власть?
Стоя за письменным столом, Захаров сказал:
– Я – Советская власть.
И Ванда закричала, некрасиво вытягивая шею:
– Ты? Ты – Советская власть? Так возьми и зарежь меня! Возьми нож и зарежь, я все равно жить больше не буду.
Захаров не спеша, основательно уселся за столом, разложил перед собой принесенную бумажку, произнес так, как будто продолжал большой разговор:
– Эх, Ванда, мастера мы пустые слова говорить! И у меня вот… такое бывает… А покажи, какая у тебя беретка. Подними и дай сюда.
Ванда посмотрела на него тупо, села на диван, отвернулась.
Витя поднял берет, подал его Захарову.
– Хорошая беретка… Цвет хороший. А наши искали, искали и не нашли. Интересно, сколько она стоит?
– Четыре рубля, – сказала Ванда угрюмо.
– Четыре рубля? Недорого. Очень хорошенькая беретка.
Захаров, впрочем, не слишком увлекался беретом. Он говорил скучновато, не скрывал, что берет его заинтересовал мимоходом. Потом кивнул, Витя вышел. Ванда направила убитый взгляд куда-то в угол между столом и стеной. Поглаживая на руке берет, Захаров подошел к ней, сел на диван. Она отвернулась.
– Видишь, Ванда, умереть – это всегда можно, это в наших руках. А только нужно быть вежливой. Чего же ты от меня отворачиваешься? Я тебе зла никакого не сделал, ты меня не знаешь. А может быть, я очень хороший человек. Другие говорят, что я хороший человек.
Ванда с трудом навела на него косящий глаз, угол рта презрительно провалился:
– Сами себя хвалите…
– Да что же делать? Я и тебе советую. Иногда очень полезно самому себя похвалить. Хотя я тебе должен сказать: меня и другие одобряют.
Ванда наконец улыбнулась попроще:
– Ну, так что?
– Да что? Я тебе предлагаю дружбу.
– Не хочу я никаких друзей! Я уже навидалась друзей, ну их!
Захаров поднялся с дивана, прошелся по кабинету, постоял перед картинами, которых много висело в кабинете, потом залез за стол.
– Какие там у тебя друзья! Я уже знаю. Я тебе предлагаю серьезно: большая дружба и на всю жизнь. На всю жизнь, ты понимаешь, что это значит?
Ванда пристально на него посмотрела, прошептала:
– Понимаю.
– Где твои родители?
– Они… уехали… в Польшу. Они – поляки.
– А ты?
– Я потерялась… на станции, еще малая была.
– Значит, у тебя нет родителей?
– Нет.
– Ну, так вот… я тебе могу быть… вместо отца. И я тебя не потеряю, будь покойна. Только имей в виду: я такой друг, что если нужно, так и выругаю. Человек я очень строгий. Такой строгий, иногда даже самому страшно. Ты не боишься? Смотреть я на тебя не буду, что ты красивая.
У Ванды вдруг покраснели глаза, она снова отвернулась, сказала очень тихо:
– Красивая! Вы еще не знаете, какая.
– Голубчик мой, во-первых, я все знаю, а во-вторых, и знать нечего. Чепуха там разная.
– Это вы нарочно так говорите, чтобы я осталась в колонии?
– А как же… Конечно, нарочно. Я не люблю говорить нечаянно, всегда нарочно говорю. И верно: хочу, чтобы ты осталась в колонии. Очень хочу. Прямо… ты себе представить не можешь.
Он вылез из-за стола и подошел к ней.
– А знаешь, что? Оставайся. Хорошо заживем. Вот увидишь.
Она подняла к нему внимательные, недоверчивые глаза, а он смотрел на нее сверху, и было видно, что он и в самом деле хочет, чтобы она осталась в колонии. Она показала рукой на диван рядом с собой.
– Вот садитесь, я вам что-то скажу.
Он молча сел.
– Знаете что?
– Возьми свою беретку.
– Знаете что?
– Ну?
– Я сама очень хотела в колонию. А меня тут… один знает… Он все расскажет.
Захаров положил руку на ее простоволосую голову, чуть-чуть провел рукой по волосам:
– Понимаю. Это, знаешь, пустяк. Пускай рассказывает.
Ванда со стоном вскрикнула:
– Нет!
Посмотрела на него с надеждой. Он улыбнулся, встряхнул головой:
– Ни за что не расскажет.
В кабинет ворвался Володя Бегунок, остолбенел перед ними, удивленно смутился:
– Алексей Степанович, Руднев спрашивает, не нужно ему новенькую девочку… тот… принимать?
– Не нужно. Клава примет. Пожалуйста: одна нога здесь, другая там, позови Клаву.
– Есть!
Володя выбежал из кабинета, а Ванда прилегла на боковине дивана и беззвучно заплакала. Захаров ей не мешал, походил по комнате, посмотрел на картины, снова присел к ней, взял ее мокрую руку:
– Поплакала немножко. Это ничего, больше плакать не нужно. Как зовут того колониста, который тебя знает?
– Рыжиков!
– Сегодняшний!
Влетел в комнату Володя, снова быстро и с любопытством взглянул на Ванду, что не мешало ему очень деловито сообщить:
– Клава идет! Сейчас идет!
– Ну, Володя! Вот у нас новая колонистка! Видишь, какая грустная? Ванда Стадницкая.
– Ванда Стадницкая? Вот здорово! Ванда Стадницкая?
– Чего ты?
– Да как же! А Ванька собирается в город идти… искать тебя. И я тоже.
– Ваня? Гальченко? Он здесь?
– А как же! Гальченко! Вот он рад будет! Я позову его, хорошо?
Захаров подтвердил:
– Немедленно позови. И Рыжикова.
– Ну-у! Тогда и Чернявина нужно…
– Ванда, ты и Чернявина знаешь?
Ванда горько заплакала:
– Не могу я…
– Глупости. Зови всех.
В дверях Володя столкнулся с Клавой Кашириной.
– Алексей Степанович, звали?
– Слушай, Клава. Это новенькая – Ванда Стадницкая. Бери ее в бригаду и немедленно платье, баню, доктора, все и чтобы больше не плакала. Довольно.
Клава склонилась к Ванде:
– Да чего же плакать? Идем, Ванда…
Не глядя на Захарова, пошатываясь, торопясь, Ванда вышла вместе с Клавой.
Через десять минут в кабинете стояли Игорь, Ваня и Рыжиков. Торский и Бегунок присутствовали с видом официальным. Захаров говорил:
– Понимаете, что было раньше, забыть. Никаких сплетен, разговоров о Ванде. Вы это можете обещать?
Ваня ответил горячо, не понимая, впрочем, какие сплетни может сочинять он, Ваня Гальченко:
– А как же!
Игорь приложил руку к груди:
– Я ручаюсь, Алексей Степанович!
– А ты, Рыжиков?
– На что она мне нужна? – сказал Рыжиков.
– Нужна или не нужна, а языком не болтать!
– Можно, – Рыжиков согласился с таинственной снисходительностью.
На него все посмотрели. Вернее сказать – его все рассмотрели. Рыжиков недовольно пожал плечами.
Но в комнате совета бригадиров разговор на эту тему был продолжен.
Игорь Чернявин настойчиво стучал пальцем по груди Рыжикова:
– Слушай, Рыжиков! То, что Алексей говорит, – одно дело, а ты запиши, другое запиши… в блокноте: слово сболтнешь, привяжу камень на шею и утоплю в пруду!
Виктор Терский рассматривал Рыжикова с деловой строгостью:
– Правильно. Только утопить!
Рыжиков заметался взглядом по комнате, но так заметался, чтобы не встретить ни одного взгляда присутствующих:
– Да что вы, хлопцы! Разве я…
– Знаю вас, синьор!
Рыжиков страдальчески поморщился. Тяжесть этих подозрений была для него непосильна.
В спальнях, в столовой, в парке, в коридорах, в клубах – между колонистами всегда шли разговоры о производстве. В большинстве случаев они носили характер придирчивого осуждения. Все были согласны, что производство в колонии организованно плохо. На совете бригадиров и на общих собраниях въедались в заведующего производством Соломона Давидовича Блюма и задавали ему вопросы, от которых он потел и надувал губы:
– Почему дым в кузнице?
– Почему лежат без обработки поползушки, заказанные заводом им. Коминтерна?
– Почему не работает полуревольверный?
– Почему не хватает резцов?
– Почему протекает нефтепровод в литейной?
– Почему перекосы в литье?
– Почему в механическом цехе полный базар? Барахла накидано, а Шариков целый день сидит в бухгалтерии, не может никак пересчитать несчастную тысячу масленок?
– Когда будут сделаны шестеренки на станок Садовничего, клинья к суппорту[182] Поршнева, шабровка[183] переднего подшипника у Яновского, капитальный ремонт у Редьки?
Колонисты требовали ремонта станков, ходили за ремонтными слесарями, ловили во дворе Соломона Давидовича, жаловались Захарову, но к станкам всегда относились с презрением:
– Мою соломорезку сколько ни ремонтируй, все равно ей дорога в двери. Разве это токарный?
Соломон Давидович обещал все сделать в самом скором времени, но остановить станок и начать его ремонт – на это не был способен Соломон Давидович. Это было самоубийство – остановить станок, если он еще может работать. Станок свистел, скрипел, срывался с хода, колонисты со злостью заставляли его работать, и станок все-таки работал. Работали соломорезки, работали суппорты без клиньев, работали изношенные подшипники. «Механический» цех ящик за ящиком отправлял в склад готовые масленки, около сборочного цеха штабелями грузили на подводы театральные кресла. Швейная мастерская, как и предсказывал Соломон Давидович, выпускала исключительно трусики из синего, коричневого и зеленого сатина, но выпускала их тысячами, и на каждой паре трусиков зарабатывал завод[184] три копейки. В колонии не было денег, но на текущем счету колонии все прибавлялись и прибавлялись деньги. Среди колонистов находились люди с инициативой, которые говорили на собраниях:
Ознакомительная версия.