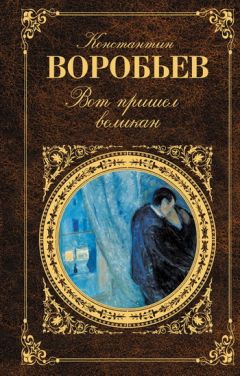Между тем земля вертелась и вертелась, и солнце каждый день всходило и всходило с востока. Был уже март… В наших отношениях с Певневым образовалась тогда новая полоса взаимного отчуждения, — он встречал меня с таким выражением, будто подозревал или наверняка знал, что у меня произошло или вот-вот должно произойти какое-то приятное для него недоразумение с правосудием, я же в свою очередь считал потребным скрыто презирать его, чтобы не терять уважения к себе. Мне нравилось изводить его издали и обиняком. Однажды я позвонил при нем Альберту Петровичу и спросил, известно ли ему, что отвечал Куприн в начале своей писательской известности тем господам, которые предумышленно произносили его фамилию с ударением на первом слоге? Ирена не знала.
— Он настоятельно советовал им не садиться без штанов на ежа, — сказал я.
— Не дразни ты его там и не злись сам, — засмеялась Ирена. — Чем плохо звучит «Ержун»? Мне нравится!
— Я тоже в восторге, — сказал я, поняв, что она одна. — А как вы находите заповедь от Иакова «Да будет всяк человек скор увидети и косен глаголати»?
— Он же, наверно, догадывается! — сказала Ирена.
— Нет, — возразил я, — вы ошибаетесь. Утверждение, что благосклонность к подлецам не что иное, как тяга к низости, принадлежит не библейским пророкам, а греческому философу Теофрасту. Он был современником Платона.
— Откуда ты нахватал все это? — удивилась Ирена.
— Да-да, — сказал я, — рассуждение, что только редкие и выдающиеся люди сохраняют в старости деятельный и смелый ум, тоже принадлежит древним грекам. По их мнению, старики всегда склонны задерживать бег времени. Кстати, — сказал я, — вы не задумывались, почему Наполеон громил пруссаков, превосходящих его войска по численности в два или три раза? У тех командовали старцы, а наполеоновские маршалы были наши с вами ровесники! Вот!
Певнев до конца тогда высидел за столом и ни разу не скорябнул каблуками, — слушал, но я так никогда и не узнал, как он понял притчу о стариках. Неужели тоже принял на свой счет?
В том тысяча девятьсот шестьдесят восьмом году весна была буйная и ранняя: уже в начале апреля молочницы приносили в город фиалки и подснежники, и каждое утро по дороге в издательство я высматривал на подсохших тротуарах свою прошлогоднюю цыганку, — ей бы следовало попасться мне с пучком «колокольцев» или «мятух», и люди увидели б тогда, какое платье, черт возьми, могло оказаться на ней в следующее утро!
«Росинант» обрел все, что было ему обещано, и даже больше: кроме колес, я заменил аккумулятор и сигнал, — новый звучал гармонично и важно, что нам и требовалось. Мне давно мешал плед. С ним сразу же незримо поселилась в моей комнате тетя Маня, а это разоряло весну и заставляло не забывать то, о чем не хотелось помнить… С пледом нужно было срочно что-то делать. Я не мог передарить его бабке Звукарихе, — не та она была для меня бабка, кому он подошел бы со своей траурной бахромой, с тенью смерти в каждой своей шафранной клетке. Строго говоря, с ним нельзя было ни расстаться, если отдать кому-либо чужому, ни сохранять по ночам дома, и я застлал им сиденья «Росинанта». Это показалось мне единственным компромиссным выходом из положения для всех нас, своих, живых и неживых, так как «Росинант» был не только «своим», но и бессмертным. Все-таки он был железный…
В тот день, как мы с Иреной оторвались наконец «к себе», в лес, я позвонил ей при Певневе и спросил, известны ли моему другу исторические комментарии русской императрицы Екатерины Великой к портрету королевы неаполитанской Иоанны Второй?
— Нет, Николай Гордеевич, книга ваша давно в производстве, — вежливо ответила Ирена, — а что вы хотели?
— В таком случае слушайте, — сказал я Певневу, а не ей. — «Красавицы, знатные дамы и государыни должны походить на солнце, которое разливает свой свет и лучи на всех и каждого так хорошо, что каждый это чувствует. То же самое должны делать эти великие и красивые, расточая свою красоту и прелести тем, кто к ним пылает страстью. Прекрасные и великие дамы, могущие удовлетворить множество людей либо своей нежностью, либо словами, либо прекрасным лицом, либо обхождениями, либо бесконечно прекрасными доказательствами и знаками, либо прекрасными действиями, что более всего желательно, не должны отнюдь останавливаться на одной любви, но на многих, и подобные непостоянства для них позволительны и прекрасны». Кавычки закрыты, сказал я. Певнев снялся с места и вышел, негодующе хлопнув дверью, — не перенес бедняга екатерининской озорной насмешки над великосветскими ханжами и уродицами.
— Это, конечно, любопытно, — озадаченно сказала Ирена, — но я бы не решилась представить такую вставку на визу главному редактору. Дело в том…
— Все ясно, — прервал я, — мой целомудренный лирик только что сбежал, поэтому слушай сюда. Я буду ждать тебя в конце набережной. Сразу же после работы. Ладно?
— Вот именно, — ответила Ирена, — дело не в возможности задержки набора, скажем, на час или на два, а в том, что вы только что правильно заметили сами.
Я сказал, что она гениальный ребенок и что мы будем ждать ее с «Росинантом» в конце набережной с шести до восьми.
Ручей еще не улегся в свое русло и вполне мог считаться маленькой речкой. Мы назвали ее «Колочесиком», — придумала Ирена, а что это означало бог весть. Уже кудрявилась и зеленела прибрежная ольха, и на вербах падуче висели длинные пушистые серьги. Всюду под кустами из-под бурой слеглой листвы пробивалась несметная сила фиалок, но мне не было позволено собрать букет: Ирена сказала, что они и так наши. Мы отыскали гряду можжевельника. Шаров там не оказалось, но это не огорчило нас, — Ирена решила, что их сняли ребятишки. Девочка и мальчик. Понимаю ли я, что они унесут после этого в своих душах на всю жизнь, до самой смерти? Я сказал, что понимаю. Это ж им не блин и не трояк пьяного сторожа.
— Дурак, — обиженно сказала Ирена, а я приободрил ее великаном. В лесу было покойно, сиренево-сумрачно и торжественно, — мы как будто вернулись домой из отпуска, проведенного «дикарями», явились усталые, но здоровые, на исходе дня, а дом у нас прочный, прохладный и чистый, — ремонт был без нас, и мы бродим и бродим по нему в полумраке, и нам невозможно отодвинуться друг от друга, и разговаривать мы можем только шепотом…
Потому что Ирену, а затем и меня, сморил и опьянил лесной бражный дух, оттого, что мы оказались тут в недоступной безгрешной вышине для всех и для самих себя, нас предательски и ненужно застигла ночь. Ирена спала на моей левой руке, укрывшись пледом, и когда я, очнувшись первым, осторожно попытался высвободить часы, она встрепенулась и спросила, сколько времени. Я засветил плафон. Было половина третьего.
— Что же теперь делать? Ты не знаешь, где я была? Придумай скорей! Где я была?
Я погасил плафон, чтобы не видеть ее обезображенной страхом, и мы молча, скрыто враждуя из-за помех друг к другу, установили сиденья. В свете фар бурунно тек и клубился ползучий приземной туман, и мы не скоро выбрались на шоссе. Там я вслух подумал, что самое лучшее — ехать на Гагаринскую. Навсегда. Потом, сказал я, заберем Аленку. Издадим повесть. И напишем вторую.
— Ну что ты ползешь, как вошь по нитке! — истерично выкрикнула Ирена. Такое ей не следовало произносить. Я знал, что в детприемниках не учили изящной словесности, но это ничего не меняло. — Что я скажу дома? Не знаешь?
Больше ста пяти километров в час «Росинант» не мог выдать. Он вихлял и дребезжал. Улицы города были пусты, и я не сбавил скорость и не стал включать дальний свет. Перед особняком на Перовской «Росинанта» юзом развернуло носом на площадку, — я резко затормозил, и фары высветили там Волобуя. Он был в кожаном пальто, блестевшем, как кольчуга. Он стоял у дверей дома и заслонялся рукой от света. Фары ослепляли его, но мне казалось, что он видит нас насквозь.
— Остаешься? — спросил я Ирену. Она с мольбой и ненавистью посмотрела на меня и вышла из машины. Волобуй стоял на прежнем месте, и я тогда понял, что никогда не расставался с тайным желанием отомстить ему за нашу с Иреной неволю в открытую, лицом к лицу, во весь рост. Ирена подвигалась к нему медленно, виновато-покорно, без порыва к самозащите и без надежды на чью-либо помощь. Он что-то сказал ей, чего я не расслышал, и вдруг не пошел, а покатился к ней навстречу, клонясь вперед и отведя зачем-то руку назад. Их разделяло шага три, когда я очутился на площадке в створе фар и крикнул Волобую, что превращу его в пригоршню кожаной пыли, если он посмеет тронуть эту женщину, — так я невзначай оскорбил Ирену: разве она была «этой»? Под моим окриком она побежала мимо Волобуя и скрылась внутри дома, а Волобуй, свирепо оглядев меня и попятясь из полосы света, позвал испуганно и захлебно, как тонущий при вынырках из воды:
— Милиция! На помощь! Милиция!