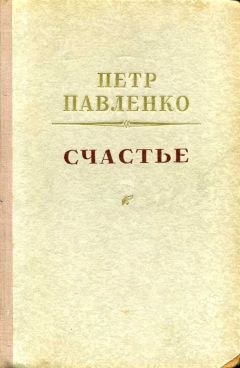С Воропаевым сложилось у нее как-то все по-иному. Во-первых, он не ухаживал за нею, а вместе с нею переживал то, что не переживалось им до нее. Он запросто лез к ней со своими любимыми книгами, со своими дрязгами и неприятностями. Он посылал к ней на ночлег своих приятелей, мучился вместе с нею за ее тяжело больных и вникал в дела ее госпиталя, как в свои собственные. И она — сухарь, недотрога, гордячка, «каменный цветок» — дошла до того, что звонила ему в штаб корпуса и звала его к себе в гости или запросто заезжала к нему в политотдельский блиндаж, чтобы, моргая от усталости, слушать его рассказы о каких-то сборах политруков или о солдатских частушках, которые он коллекционировал, а потом, полусидя, спать под звуки зуммера, скрип фанерной двери, погнувшейся от жары, и слушать его хриплый, злой баритон, к утру понижавшийся до пропитого баса.
Женщине, если она хочет быть всегда искренней, очень трудно построить жизнь. Право же, имея славу талантливого врача, довольно глупо штопать носки мужу, когда она не ахти как умеет починить собственные чулки, но она готова была бы даже на это. Что нужно уметь образцовой жене? Варить обед? Заниматься делами мужа? Как-то так случилось, что Горева мало что умела. Она была скверной хозяйкой, не пела, не музицировала, не рисовала, не рассуждала о литературе, хотя много читала и хорошо помнила читанное. Больные ее любили, товарищи уважали, подруги побаивались и заводились не надолго. Она даже одевалась как-то украдкой — никто не знал, у кого она шьет и какие у нее вкусы, но, впрочем, выглядела она всегда лучше других, хотя и не модничала.
«Вероятно, я уже старая дева», — подумалось теперь ей. Она хотела заговорить об этом сегодня с Голышевым, но он был такой сердитый и обиженный, что она только скользнула по нему испуганным взглядом и сейчас же с облегчением отвернулась.
«Что бы на моем месте сделал Алексей? Мужчины прямолинейнее, хотя тоже не бог весть как изобретательны. Но они не боятся итти напролом, не боятся отвоевать то, что им нужно, а мы только и ждем, когда нас завоюют. Не глупость ли? Если бы женщина выбирала себе мужа с такой смелой простотой, с какой выбирает себе подругу мужчина, — люди были бы вдвое счастливее».
За те сутки, что Горевой не было «в армии», военно-полевое управление из дальнего предместья переместилось в южные кварталы города, и Александру Ивановну, когда она появилась среди своих старых сослуживцев, немедленно устроили в очаровательном особняке, принадлежавшем состоятельному коммивояжеру, в переулке Томаса Мюнцера.
Особнячок в четыре комнаты носил поэтическое название «Маркитта». Конечно, это должно было звучать солидно — Вена, 10, Мюнцерштрассе, вилла «Маркитта». Этот домик был приобретен в рассрочку, как зингеровская машина или оппель-«кадет».
Участок был маленький, скупенький и для хозяйства не приспособлен никак. Клетку для кроликов еще пожалуй, но уж поросенка поместить было решительно негде. Очень приятный палисадник засажен розами, сиренью и какими-то неизвестными у нас деревьями с пышными розово-фиолетовыми цветами. Фасад «Маркитты», как, впрочем, и всех остальных особнячков этого квартала, одет в тоненькую зеленую вуаль плюща. Улицы в этом квартале очень узки, а дворики не приспособлены для стоянки автомобилей. Здесь жили люди, еще не возвысившиеся до уровня владельцев авто.
Вернувшись от Голышева, Александра Ивановна съездила проведать «госпиталь» доктора философии Либерсмута и проработала там часа четыре, потом завернула в дивизию Короленко — узнать, как сошел «подземный прыжок», и нисколько не удивилась тому, что он блестяще удался.
Потом, уже во второй половине дня, она оперировала в армейском госпитале до тех пор, пока ее не вывели из операционной и не отправили с каким-то фельдшером в отведенную ей квартиру.
Грустно было Горевой после разговора с Голышевым, грустно и тяжело.
Она поднялась на второй этаж и прилегла на низенький игрушечный диванчик в одной из двух отведенных ей верхних комнат «Маркитты».
Это было нечто вроде маленького кабинета при спальне. Недорогая, но красивая низкая мебель, на полу венский коврик — подделка под персидский, на стенах акварели, почему-то польских и румынских художников, неплохие, но и не настолько замечательные, чтобы им пропутешествовать в Вену. Занавеси цвета заходящего солнца спускались низко на пол, как шлейф старинного платья. Абажуры из промасленного картона выглядели пергаментными.
Непрекращающаяся артиллерийская канонада глухо стучалась в треснувшее стекло и навевала своеобразный фронтовой уют.
Взяв из книжного шкафа горку прекрасно иллюстрированных альбомов Вены. Будапешта, Рима и Венеции, она машинально перелистывала их, одновременно думая о своем.
Альбом Будапешта особенно поразил ее. В фотографиях и рисунках вставал очень красивый, элегантный город, которого она, пробыв в Будапеште с месяц, так и не видела. И то правда, что Будапешт был страшно разбит, но даже его уцелевшие кварталы не произвели на нее такого сильного впечатления, как эти фото. Или Вена. Она вглядывалась в фотографии Грабена и Ринга, великолепнейших улиц австрийской красавицы столицы, и сопоставляла их с тем Грабеном и тем Рингом, что она видела на пути к Голышеву. Сегодняшняя Вена была совсем другим городом — скучным, тесным и грязным, «Очевидно, город украшают главным образом люди», — с грустью подумала она и, отбросив альбомы, задумалась о своем.
До сих пор она была твердо уверена в том, что досконально знала Воропаева. Иной раз ей даже начинало казаться, что она знает его глубже, чем он сам себя.
Она знала, что при всем своем большом и гибком уме, разностороннем образовании и огромном жизненном опыте Алексей Воропаев во многом непрактичный ребенок, что при его дьявольской энергии и выносливости он порой бывает ленив, вял, что его горячий, вечно мятущийся оптимизм легко переходит в апатию, что он порой теряет веру в свои силы и что его жене следует неукоснительно поддерживать в нем священный огонь самоуверенности. Она знала о Воропаеве все, что можно знать о дорогом человеке, и она любила его таким, каков он есть, и знала, что он нужен ей, потому что чем-то дополняет и обогащает ее самое.
И вот, подите же, оказывается, она не знала Воропаева и его душа для нее — потемки.
...Тонкая лестничка с оранжевыми пластмассовыми перилами заскрипела под чьими-то шагами. Раздался тихий, осторожный стук в дверь.
— Войдите, — и она невольно ощупала локтем вальтер.
Вошел пожилой человек в длинном зеленоватом пиджаке, показавшемся ей старомодным.
— Прошу извинения, я — владелец виллы, господин Петер Альтман (так без всякого стеснения и сообщил о себе, что он не просто Альтман, а господин Петер Альтман), — представился вошедший старик. — О, у вас, мадам, не тепло!.. Ай-ай-ай!.. Я сейчас прикажу, мадам... То есть что это я говорю? Я сейчас принесу вам корзиночку угля. Но я... тысячу извинений, мадам... если вы позволите, на один момент погасить свет и отдернуть драпировки... Меня обеспокоило нечто, чему я не подберу названия... Разрешите?
И, не ожидая ее разрешения, он погасил свет, прошел к окну и отдернул плотный занавес.
Вдали, в промежутке между высокими домами, пологой, мягкой, почти незаметной дугой неслись вверх стремительные лучи «катюш».
— Это «катюша», — не объясняя, сказала она.
— А-а, вот оно!.. Катьюш! Да-да-да!.. Катьюш!.. Очень эффектно. И, говорят, страшно? — он уже прикрыл окно.
— Все говорят — очень страшно, — сухо ответила Горева.
— Мадам путешествует? — любезно спросил он, кивнув на альбомы, и легким движением ноги пододвинул к себе пуфик на дутых металлических лыжах, ожидая ее приглашения присесть и уже сгибая ноги.
— Садитесь, пожалуйста, — сказала она явно вынужденным тоном, и он тотчас присел.
— Путешествуете? — повторил он. — Я много ездил, много видел, много жил, есть о чем вспомнить, — сказал он так, как будто обещал ей много чего-то хорошего. — Вы еще не были в Италии? — вежливо спросил он.
— Нет еще, — ответила она.
— Что так?
— Успеется. Время в моих руках.
— О да, теперь — да.
Он помолчал, оглядывая комнату, точно она после поселения в ней советской женщины должна была выглядеть уже как-то по-новому.
— Вам будет у нас хорошо, — сказал он убежденно. — Вы не проиграли, что остановились у Альтманов. Дай бог, чтобы и мы вспоминали вас добром. Уголь у нас есть, носить только некому, но, я полагаю, мадам доктор будет иметь солдата? Конечно, я так и полагал. Тогда это совсем просто. Утром завтрак? Нет? Тогда теплая вода для умыванья. Отлично. Чай вечером? А главное, мадам, это общение с нами. Вам предстоит много поработать с нами — о-о-о!.. Это не легкий труд. Нет, нет!..
В этот вечер, как она ни отговаривалась, ей пришлось спуститься вниз, к Альтманам. Мадам — благоухающая и неожиданно молодая, очень кокетливо одетая во что-то самое простое — ситцевое, встретила ее с таким радушием, что невольно казалось — принимает Гореву за свою давнюю знакомую. Она то и дело прикусывала нижнюю губу, как будто боялась, что русская женщина скажет что-нибудь такое, от чего не устоишь на ногах. Когда Александра Ивановна улыбнулась, хозяйка подняла брови и широко раскрыла молодые шаловливые глаза, как бы приглашая ее посмеяться. Затем пришла дочь, сидевшая на чердаке и наблюдавшая за взрывами бомб и пожарами. Она присела к столу, раскрыв перед собой толстую клеенчатую тетрадь.