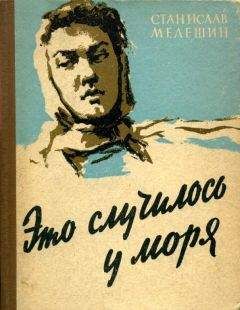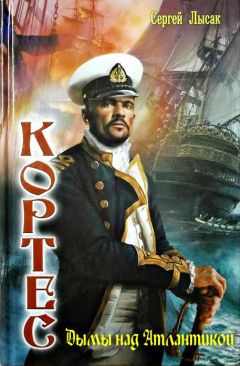Клава знала, в каком доме он живет: он однажды показал ей окна своей квартиры. Клава грустно улыбалась, и в такие минуты у него крепло и крепло решение: он скоро скажет Клаве о том, что любит ее и хочет жениться на ней.
Василий понимал, что женитьба — дело серьезное, что многие по непонятным причинам быстро женятся и скоро расходятся. Он не хотел так. Клава должна быть всем довольна, и уж, конечно, они должны с ней жить обеспеченно.
Он работал в литейном цехе комбината выбивальщиком опок с отлитыми металлическими формами. И хотя работа была тяжелой и оплачивалась высоко, он стал работать еще усерднее — добиваться премиальных. Иметь много денег, собственный дом, в котором они будут жить с Клавой, — дело не шуточное, поэтому он клал зарплату на сберкнижку, стал копить, играть в карты, выигрывал, берег рубли. Он уже знал, где достать по сходным ценам хорошие вещи, которых в магазинах почему-то не продавали, уже знал, что такое рижская мебель! Все сводилось к тому, чтобы не ударить в грязь лицом перед Клавой и знакомыми. Конечно, они будут жить отдельно от родителей, самостоятельно, в своем доме! Обо всем он ни разу с ней пока не говорил: ждал исполнения задуманного.
Как-то он не мог прийти к ней подряд три вечера. Клава пришла сама. На улице хлестал дождь. Было уже темно. В дверь постучался Павлик Чайко и вызвал его на улицу. В подъезде стояла Клава.
— Вася, — она подняла на него свои грустные детские глаза, — я много думала все это время.
Она опустила голову и глухо доверила:
— Я тебя полюбила и решила сказать тебе об этом, чтобы ты знал… ты хороший… я ведь тебя полюбила.
«Вот и началась наша жизнь», — с испугом подумал Василий, обнял ее и стал целовать — молчаливую и доверчивую. Какой она была красивой в эти минуты: щеки румяные, горячие, глаза блестят, улыбаются, губы мягкие — шепчут что-то…
Василий молчал. Клава спрятала голову на его груди и заплакала.
— Береги меня.
Он гладил ее по голове, как маленькую девочку. У него стало хорошо на душе, будто он совершил подвиг или сделал людям что-то большое, нужное, без чего они никак не могли обойтись.
Назавтра у нее в общежитии он сказал серьезно:
— Давай поженимся.
Клава кивнула и покраснела, а потом, чему-то усмехнувшись, заговорила:
— Ты это просто так говоришь. Вот ребята приходят в общежитие и также говорят девчонкам: «Давай поженимся».
Он рассердился.
— Дурочка. Я о тебе каждый день думаю и каждый день к тебе хожу. — А потом, заглянув в ее веселые виноватые глаза, добавил просто: — Ведь все равно как поженились, а живем врозь. Когда тебя нет — я тоскую. А ты?
— И я.
— Ну, вот. А то будем всегда вместе и хорошо станем жить.
Клава взъерошила его чуб и поцеловала в щеку.
— Ладно, я согласна. А где мы будем жить?
Василий помедлил с ответом: вопрос о женитьбе решился быстрее, чем он предполагал. Дома своего нет. Придется пока пожить у родителей.
— Будем жить у нас.
— Тогда познакомь меня с мамой и отцом.
Сегодня он уже сказал матери, что женится и скоро приведет невесту в дом. И вот, нарядившись в свой новый шевиотовый костюм, он с утра ищет свою невесту по городу, чтобы прийти с ней и познакомить Клаву с отцом и матерью.
Сколько не плутал Василий по городу, а снова вернулся к общежитию молодых рабочих. Он встретил Павлика Чайко, возвратившегося со смены. Они встали у подъезда друг против друга. Павлик с усталым лицом и красными глазами ожидал, подняв ногу на ступеньку крыльца.
У Павлика было шутливое прозвище «труно, но лано». Он никогда не отказывался от порученной работы или просьбы: «Труно, но лано», — соглашался он, не выговаривая «д», утирая нос ладошкой.
— Что такой кислый, «труно, но лано»? — спросил Василий.
— Устал сегодня, — тихо ответил Павлик.
— Вот событие, устал! Это дело поправимое — идем и… по сто грамм! День-то какой! — хлопнул его Василий по худому плечу.
— Не пойду. Ты разве не знаешь, что в цехе авария была. У твоего отца.
— Подумаешь, авария… Я женюсь на Клавке.
— Знаю, — задумчиво растянул Павлик и отвернулся.
— Вот ушла куда-то. Может, сейчас дома сидит. Вызови ее, будь другом.
Василий ждал, что сейчас последует: «труно, но лано», но Павлик Чайко вдруг подошел к нему вплотную и, чуть касаясь спецовкой синего Васькиного шевиота, проговорил:
— Клава сегодня в вечернюю школу записывается и…
— А ты откуда знаешь? — перебил его Василий.
— Вместе собирались. — Павлик помедлил. — Зря ты подбиваешь ее выходить замуж, она еще глупая, молодая, и ей учиться надо.
— Ну, это не твое дело, — остановил Павлика Василий и подумал: «Завидует». — Ты какой-то сознательный стал, Павлуша. Всегда сводил нас, вызывал, записки передавал, а теперь… Эх ты, поджигатель любви. До свиданья. А нам не мешай, твердо решено. Вот этим! — Василий постучал себя по груди, где билось сердце, и пошел, оставив Чайко на крыльце. Он любил Павлика и никогда не сердился на него, а сегодня обиделся.
С Павликом они были дружками — работали вместе в литейном цехе. Павлик учился в учебно-курсовом комбинате и вскоре перешел в мартеновский цех подручным. Пыльников встретил его недружелюбно — уж больно неказист на вид был Чайко для горячей сталеварской работы!
— Куда, пацан, лезешь?! Сгоришь без пепла! Смотри — трудно!
— Труно, но лано! — убежденно ответил Павлик, прищурившись, утер нос ладошкой и, примерив сталеварские очки, взялся за лопату.
После разговора с Чайко самолюбие Василия было уязвлено.
«Замечание сделал: зря подбиваешь Клаву. А что я обману ее, что ли?! Я ли не хозяин себе?!» Правда, жизнь у него не громкая, он всего-навсего просто молодой рабочий. Работает и все, да вот любит Клаву. В школе не доучился — не хотелось. Наука не для него. Не всем же в ученых ходить. А жениться можно — лишь бы любили!
Сейчас он почувствовал, что подошел к какой-то серьезной жизненной черте, когда человек становится взрослым, отвечает за себя и за других. Жить, как жил отец, ему не хотелось. Ничего не иметь, все силы и ум отдавать только работе, болеть за производство, не думать о своем — это же все равно, что не жить вовсе. Василий был убежден, что работа всегда тяжела, и люди работают, чтобы кормиться и иметь кое-какие радости.
Было тоскливо на душе. Клавка куда-то ушла, домой еще рано и нет охоты. На работу в ночь — времени еще много.
Василия окликнули: у трамвайной остановки стояли улыбающиеся высокие братья-близнецы Шершневы, держа в руках свертки с покупками.
— Здорово, друг Вася, — проговорил один из них заплетающимся языком. — Айда с нами. Дельце одно есть.
Второй — с золотым зубом и распахнутым воротом, из-под которого пестрела голубыми полосками тельняшка, красный и подмигивающий, — пробасил хрипловато:
— Едем с нами в Крыловский поселок на гулянку! В картишки перебросимся…
Василий давно знал Шершневых. Братья нигде не работали, но всегда могли выручить деньгами, достать где-то новый костюм или услужливо предоставить очередь за «Победой», поэтому Василий не терял с ними дружбы. Кстати они ему подвернулись: никогда не мешает повеселиться…
— Поехали. Ладно. Только мне с четырех на смену. Пить много не давайте, — обнял обоих Василий, и они вместе вошли в трезвонящий трамвай.
Василий пришел домой пьяный, поглядел безразлично на отца и мать и, как бы извиняясь, что выпил и вот качается, глупо улыбнулся.
— Второй раз уже, — отметила шепотом Полина Сергеевна и испугалась, взглянув на задумчивое страдальческое лицо мужа.
— Что, лишние деньги завелись?! — с сердцем крикнул Павел Михеевич, медленно пододвигая сыну стул. Василий молчал.
— Что ж, без отца пьешь… и мать не пригласил? Этак-то голова будет болеть…
Василий подошел к столу.
— На, мать, деньги! — засмеялся он и рассыпал по столу мятые пятидесятирублевки.
— Не трожьте, Полина Сергеевна… — сурово произнес Байбардин, обращаясь к жене на «вы», давая понять, что это дело не только семейное, но и общественное: мы, мол, родители и нам отвечать. Встал у стола, будто на суде.
— Ссориться хочешь, отец?! — отшатнулся Василий и еще раз взглянул хмурыми, усталыми глазами.
— Для ссоры ты мне не ровня! Садись!
Павел Михеевич сжал кулак, сдерживая гнев, наблюдая за сыном. Свисая с плеч, болтался фотоаппарат, резко скрипели новые коричневые туфли. Василий покачнулся, удержался за стул, сел.
— Как на работу пойдешь… с такой головой… к машинам, к товарищам на глаза? Рабочее звание позоришь. Меня… — Павел Михеевич помедлил, приглушил голос, — Байбардина позоришь… ты ведь тоже Байбардин!
— Что и выпить нельзя? Я не святой! Не член бюро…
— Дуррак, нашел чем хвалиться. Выпить можно, да не о том речь. Какой ты человек, какая душа у тебя?