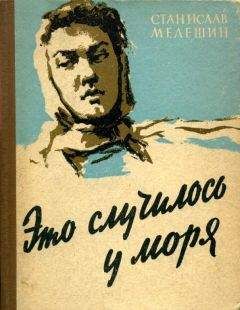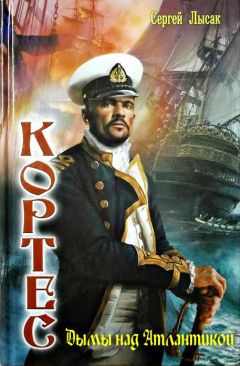— Что и выпить нельзя? Я не святой! Не член бюро…
— Дуррак, нашел чем хвалиться. Выпить можно, да не о том речь. Какой ты человек, какая душа у тебя?
— Я рабочий.
— Рабочие разные бывают… — не договорил Байбардин и покачал головой.
— Слушаю, слушаю, — опустил голову Василий, равнодушно наклонившись к отцу.
Байбардин вспылил:
— Экий сын пошел! Ты погляди на себя! Твоя жизнь к обрыву катится.
Василий поднял голову, о чем-то вспомнил, трезво поглядел на отца, заморгал:
— Аварию на мне срываешь?..
— Аварию. Эх ты, душа с узкими плечиками!
— А у меня все в порядке, отец. — Василий откинулся на спинку стула. — Женюсь я, невеста меня любит, деньги есть!
«Глуп!» — грустно подумал Павел Михеевич и защипал усы. Ему захотелось ударить сына, ударить больно, да так, чтобы он отрезвел, но, заложив руку за спину, пожалел. Тяжела для него. Юнец. И сел.
— Нам твои деньги не нужны, — убежденно и спокойно сказал он.
— Что ж, уйти мне?!
Помолчали оба. Полина Сергеевна не вмешивалась, когда разговаривали мужчины. Она только задержала вздох, когда Павел Михеевич ответил на вопрос сына — уйти ему или нет.
— Лучше будет. Мне спекулянты и пьяницы в доме не нужны. Ишь ты!..
— Но это нелепо, отец! — перебил Василий.
— Нет, лепо, лепо! — закричал Павел Михеевич. Что-то треснуло в его крике, он схватился за сердце и грузно опустился на стул. Задышал тяжело.
— Ну вот… — на мгновенье растерялся Василий. Обхватил плечи руками и закачался из стороны в сторону.
Полина Сергеевна сидела молча, наблюдая, чего-то ждала. Василию было больно смотреть на нее, он ждал поддержки, но мать глядела на него укоризненно и сурово. Он впервые испугался материнского взгляда, впервые подумал о себе, что он здесь чужой и нужно уходить.
— Возьму и уйду! — бросил Василий. Мать не вздрогнула, не вскрикнула, как он ожидал: она только покачала головой и, сняв очки, вздохнула. Василию теперь было все равно. В конце концов он уже взрослый человек и нужно же когда-нибудь устраивать свою жизнь?!
— Уйду. Дом куплю. Женюсь. Я самостоятельный. Хватит! Не в детском саду! Работаю…
Отец говорил неторопливо, глухо, глядя исподлобья:
— Ты молодой сейчас — не созрел еще для жизни. Как глина. Из тебя все вылепить можно, даже черта. Надави сюда — еще один Пыльников! Надави туда — вроде на человека похож.
Павел Михеевич отдышался.
— Курятником-то не спеши обзаводиться. Эх, рабочей гордости в тебе нет! — и махнул рукой.
Уже час ночи. По радио пели «Широка страна моя родная…» Василий молчал. Ему теперь было все безразлично. Решение уйти и жить самостоятельно крепло с каждым словом отца. В такие минуты отца ничем не остановишь и придется слушать его разглагольствования о том, что рабочему человеку домашнее хозяйство вредно, потому что на него уходят все силы и ничего не остается для завода, что рабочий человек — творец на заводе, в цехе, в стране.
— Почитай у Маркса! Умный старик был… Такого поискать! Всю жизнь надо работать — в этом сила и гордость рабочих, не в пример тем, кто рано торопится жить, ничего не успев сделать для родины.
Отец говорил с болью. Это трогало. Но у Василия были на этот счет свои мысли: у отца своя голова, у него своя. Все, что говорил отец, — хорошо для него самого, но жить, как жил отец, Василий не собирался.
Все помолчали, думая каждый о своем. Павел Михеевич заметил, что стрелка будильника, вздрогнув, остановилась. Кивнул Василию:
— Заведи часы — время умерло!
Мать принесла борщ, поставила на стол, взглянула на обоих. Говорил отец. Василий слушал неприязненно, хмуро глядя перед собой, и все порывался что-то сказать, а когда встречался с отцом взглядом, отворачивался, и лицо его становилось твердым, будто каменное.
— Ты у меня единственный сын. Не кормилец — нет! Просто — сын. Весь народ друг друга кормит, а ты себя кормить собрался.
— Мне все понятно, отец, все, о чем ты говоришь. Только ты человек сам по себе, а я сам по себе, и судьба у нас разная.
«Деревья прекращают рост…» — вспомнил Павел Михеевич разговор с Пыльниковым и отмахнулся от этой мысли. «Сына — на переплавку! Только вот температура особая нужна…»
— Ешь, Вася, ешь… на работу скоро, — сказала мать, подвигая тарелку и хлеб.
— Не буду!
Василий поднялся, загремев стулом. Ему стало невыносимо больно оставаться здесь и скандалить с отцом на глазах у матери. Ругайся не ругайся, а все равно отец не сможет его понять и будет гнуть свою линию. Решено уйти — точка! Вот Клавка сразу его поймет, ради нее он уходит, с ним ей жить.
Василий быстро переоделся в спецовку. В дверях задержался, взглянув на отца с матерью, ждал, что остановят, скажут что-нибудь, позовут. Но те молчали.
Кивнул матери. Ушел, хлопнув дверью. Спускаясь по лестнице, Василий подумал о том, что отец не сможет успокоиться сразу, не досказав, не переубедив, не доругавшись, и долго еще будет доказывать что-то матери, будто она — это Василий.
На улице в грудь толкнулся ветер, забил дыхание. Василий быстро зашагал в ночной простор улиц, навстречу домам, огням и деревьям.
«Почему мы поссорились? Первый раз в жизни он кричал на меня… А если я не хочу так жить, как он…» — подумал Василий и остановился.
«Потому, что я не такой, как отец. А какой?!» — задал себе вопрос они вслух растянул: — А-а-а! — махнул рукой и зашагал дальше.
«Почему он зол на меня? Ведь я его люблю. Обиделся, что пришел пьяный? Или что не посочувствовал ему насчет аварии? Ругал меня за то, что пью, обозвал спекулянтом. А разве другие не пьют? Я не девчонка. Когда деньги нужны — здорово работаю. И никакой я не спекулянт. За свои деньги покупаю».
Василий пожалел, что не сказал отцу ничего в свое оправдание.
«Тоже мне оратор!.. Разошелся: «Ты себя кормить собрался… Рабочей гордости в тебе нет!..» А мать? Как строго она посмотрела на меня!..»
Стало жалко мать. Больно и обидно за себя. Захотелось увидеться с Клавой и обо всем поговорить. Сейчас для него не было человека ближе и роднее.
Дежурная долго не хотела пускать Василия в общежитие: шел третий час ночи, все уже спали.
— Кто же на свидание затемно ходит?
— Женюсь я! Дело срочное!
— И то уж пора. Смотри, не обижай девку. Она у нас золотая, — строго предупредила дежурная, открывая дверь, и принялась на все лады расхваливать Клаву, будто и впрямь вся она была из чистого золота.
В комнате все спали. Василий тихо подошел к кровати, на которой спала Клава, отогнул одеяло, пощекотал за теплым ухом — разбудил.
— Одевайся, я подожду на крыльце. Разговор есть.
Клава протерла глаза, вздохнула и засобиралась.
— Весь день тебя искал.
— Сейчас, сейчас, Васенька, — поцеловала, вздохнув, обвила шею руками, вся теплая, мягкая.
…Они остановились у заводского моста. Отсюда виден весь город, погруженный во тьму. Земли и неба будто совсем нет — одна чернильная темнота, из которой выглядывают золотые точки электрических огней, рассыпанных по обоим берегам. Это там вдали, а здесь у моста над тяжелой черной водой пышет зарево багровое, густоклубное. Вспышки плавок, пламя заводских печей и фосфорический свет электросварок прочеркивают зарево яркими бело-желтыми полосами. Казалось, что пламя достают из глубин земли и, обжигая металл, кидают огонь в холодное, застывшее небо.
Тепло, глухо, только слышно, как гудит тишина и позванивают в ушах ночные шорохи.
Громадные, освещенные дымы раздвинули небо. Все нависло над водами, опрокинулось на лаковую поверхность пруда. Трубы в воде стреляют языками пламени вниз; береговой трамвай, отражаясь, плывет в глубине воды; а зарево уходит все глубже и глубже, на самое дно, и колышется там. Кажется, вот-вот загорится вода; сунь руку — кипяток!
— Пожар! И красиво, и страшно. Гудит!
Клава взяла Василия за руку, чуть сжала в своей: он идет туда, в огонь и дым, ее родной, сильный человек.
— Красоты много, коль дым и огонь на небе, а на земле рабочие от этой жары и дымов изжогой мучаются до семи потов, — деловито сказал Василий, и Клавке это не понравилось. Картина ночного зарева сразу погасла в ее глазах.
— Тяжело тебе работать, Васенька? — робко спросила она.
— Тяжело, но терпимо. Другим хуже. Я молодой, — ответил он и, чтобы подбодрить, похлопал ее по плечу.
Клавка обняла Василия, заглянула в глаза, прижалась щекой к его горячей щеке, ощутила за ухом дыхание и мужские, чуть жесткие губы.
— Вот я сейчас, знаешь, что чувствую… Не могу я без тебя, понимаешь?
Василий высвободился, сказал: «Ага!» и достал папиросу.
— Что-то ты мне ласковых слов не говоришь?
— Некогда, — пошутил Василий, чиркнув спичкой, глубоко затянулся дымом, готовясь к серьезному разговору.