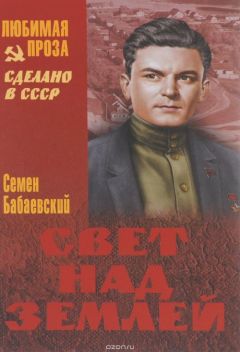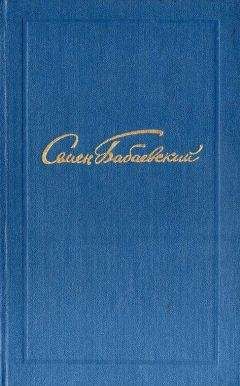— Постой, постой, — перебил Евсей Фомич, еще сильнее сжимая руками ствол берданки. — Это что же за обман? Я вижу одну эту бумагу, а где же гроши? Ты мне гроши обещал?
— Евсей Фомич, — смело ответил Нарыжный, — ты сперва подпиши это письмо, а деньги сами к тебе придут…
— Знать, все дело в моей подписи?
— Вот именно…
— Так ты, Евсей Гордеич, малость повремени, — сказал сторож, тяжело вставая и поглядывая на собаку. — Скоро сюда приедет наш парторг. Вот ежели он ту бумагу подпишет, то я тоже, с пребольшим удовольствием. Я человек не партийный, но за своим парторгом иду смело…
После этого случилось нечто такое, чего Евсей Нарыжный никак не мог ожидать. В мгновение ока его тезка не отбежал, а прыжком отскочил шагов на пять и, нацелившись берданкой, что есть силы крикнул:
— Подымай руки, гадюка!
И вот тут наступила самая критическая минута, вернее — не минута, а какой-то один только миг, который и должен был привести к развязке столь неудачную для Нарыжного беседу. Подчиняясь не разуму, а инстинкту самосохранения, Евсей схватил свое письмо и бросился к Буланому с таким невероятным проворством, которому позавидовал бы даже чемпион бега на стометровую дистанцию. За спиной у него раздался выстрел, — видимо, сторож пустил дробь в небо, ибо наш бегун был цел и невредим. Он уже достиг цели и схватился за гриву коня, но в это время произошло самое горькое и постыдное. Учуяв выстрел и гиканье хозяина, рыжая собака в несколько прыжков настигла бегуна в тот самый момент, когда он упал грудью на спину Буланого. Собака без единого звука схватила зубами штанину и рванула ее так, что только клочья разлетелись во все стороны. Отбиваясь ногами и напрягая все силы, Евсей оставил в собачьих зубах добрый клок штанины, с трудом взобрался на спину коня и погнал его вскачь по стерне, ничего не видя и не соображая, куда уносит его Буланый.
Доверившийся коню Евсей скакал, как говорят, напропалую, желая одного — любой ценой избавиться от погони. Лай собаки вскоре смолк, не доносился и крик сторожа, но Евсей гнал и гнал коня. И вот теперь, проскакав километров пятнадцать, он увидел огни автомобильных фар, которые как бы указывали путь на Усть-Невинскую. Видя такой важный ориентир, наш путник не сомневался, что едет в нужном направлении; поэтому он перевел коня на шаг и облегченно вздохнул. Во рту у него пересохло и горчило так, точно он жевал полынь; тело уже не дрожало, а горело: оно покрылось таким обильным потом, что рубашка прилипла к спине.
«И что за черт, а не человек, — думал Евсей, еще боязливо поглядывая по сторонам и тяжело дыша. — Вот тебе и тезка, мог бы и застрелить… А тут еще, как на грех, этот волкодав прицепился ко мне…»
Евсей Нарыжный нагнулся, потрогал рукой ногу и ахнул: весь низ правой штанины был разорван в клочья. Тогда он стал ощупывать пятку, пальцы, голень, — крови не было. «Значит, слава богу, не покусал, — с облегчением подумал он. — Это еще мое счастье, что в зубы этому зверюге попались штаны, а не нога: искалечил бы… Эх, плохо, плохо… Ежели мое дело так и дальше пойдет — беда, не вернусь к Хохлакову живым. Зря не поехал я сперва к Артамашову… Мы бы с ним все обдумали, обмозговали и начали б действовать по плану…»
Слова «мы бы все обдумали, обмозговали» живо унесли его в Усть-Невинскую, и тут ему совершенно реальной картиной представилась встреча с Артамашовым. Вот они, пожавши друг другу руки, идут степью, — одни — кругом ни души; подходят к реке и садятся у берега. Между ними сразу же начинается задушевный разговор. Евсей подробно излагает Артамашову обе неприятности, которые пришлось пережить ему в этот день. Артамашов то сочувственно качает головой, то ласково смотрит на своего друга. «Нет, дорогой Евсей Гордеевич, хоть ты человек и умный, а все же так собирать подписи не годится, — говорит Артамашов. — Тут нужно все заранее продумать, а потом уже действовать. Тебе, как лучшему своему другу, говорю: во всем положись на меня, а я на тебя. Помни — не Хохлаков, этот ожиревший боров, а мы с тобой доведем начатое дело до конца. Подписи собрать — это еще пустяк, я их в одной Усть-Невинской найду, тут тоже не все обожают Тутаринова — насолил он и своим станишникам…»
Евсей так увлекся приятными рассуждениями, что не заметил, как пересек полевую электромагистраль и спустился в отлогую ложбину. Поторопив Буланого и выехав на гору, Евсей снова хотел было хоть мысленно побыть с Артамашовым, но тут увидел нечто такое, что заставило его сразу забыть о своем усть-невинском друге, потянуть повод и остановить уже приморившегося коня. Перед ним шагах в пятистах горело зарево огней. И что же это за чудо? В такую позднюю пору, среди безлюдной степи, и такое обилие света! Похоже на пожар, но не видно ни дыма, ни огненных языков пламени.
Евсей подъехал ближе, услышав протяжный гул барабана, и увидел людей, брички, быков, тянущих волокушей солому, и скирды пшеницы, в которых пряталась молотилка.
«А где ж паровик? — подумал Евсей. — Не видно ни трактора, ни паровика, а молотилка аж ревет… Погляди, какая история! Эге, да это ж я уже на полях Усть-Невинской и набрел как раз на ток Рагулина, где действует электричество… Интересно посмотреть…»
Вид освещенного тока, молотилка без локомобиля и работающие люди, которых можно было рассмотреть, как днем, так заинтересовали Евсея, что он подъехал совсем близко и, оставаясь невидимым в темноте, не слезая с лошади, стал рассматривать диковинную молотьбу.
В сторонке возвышалась сложенная из кирпича высокая квадратная будка, а от нее на высоких столбах тянулись к молотилке три белых провода. По всему току, образуя порядочный круг, тоже поднимались столбы, а на них слепящим светом горели лампы, такое же сияние разливалось и над полками молотилки, освещая покрытые пылью лица двух женщин, развязывавших снопы, и согнутую, усыпанную остюками могучую спину зубаря. Из-под соломотряса и там, где решета выбрасывали полову, пробивались яркие пучки света, отчего падавшая на волокушу солома отсвечивала серебром. От женщин, выгребавших полову, ложились черные тени, и Евсею казалось, что лампы горят где-то в самом соломотрясе. Особенно много света было у приемных люков, так что Евсей хорошо видел и золотистые струйки зерна, падавшие в глубокий ящик, и столик возле весов, за которым сидел Стефан Петрович Рагулин, поблескивая стеклами очков, и весы, с которых четверо мужчин снимали набитые зерном мешки, сваливая их на подводу. Евсей заметил и Прохора Ненашева в комбинезоне и в шоферских очках, — он то нырял под молотилку, то брал лесенку и по ней подымался к тому мотору, который примостился на полке молотилки.
Молодые парни, взобравшись на скирду, бросали вилами, точно играя, снопы, и колосья, попадая в лучи лампы, как бы загорались красным светом. Но особенно Евсей присматривался к тому продолговатому и черному, похожему на большого жука, мотору, который находился рядом с зубарем и был прикрыт фанерой в виде крохотного сарайчика. Издали казалось, что и ремень к главному шкиву и сам мотор стоят недвижимы, и только ровный гул молотилки говорил, что вращается он удивительно проворно.
«Да, картина дюже заманчивая, — подумал Евсей. — Гудит и гудит, — сила!»
Залюбовавшись видом молотьбы, Евсей на какую-то минуту забыл, за каким делом его послал в степь Хохлаков и почему он оказался на коне перед этим шумным и озаренным лампами током, и в нем заговорила обычная любознательность. Ему захотелось подъехать к молотилке, поздороваться с людьми, а потом поподробнее расспросить их, как устроен этот двигатель; захотелось самому все осмотреть и руками пощупать, и он уже было тронул Буланого, чтобы выехать за черту ночной темноты. Но тут же он понял, что за эту черту выехать нельзя, что между ним и этим разливавшимся над землей светом лежит не ночная тьма, а пропасть, через которую не проехать теперь ему даже на Буланом… С грустью глядя на ночную молотьбу и не решаясь показаться на свет со своей разорванной штаниной, он повернул коня и шагом поехал по скошенному полю.
Но оглядываясь и все еще думая о себе и о виденном, Евсей ослабил поводья и снова доверился Буланому, — пусть идет куда знает, лишь бы не стоял на одном месте. Так он ехал долго, угрюмо склонив голову и не глядя вперед. Буланый шел и шел, а потом, очевидно, решил, что хозяин вздремнул, начал отыскивать что-нибудь съестное. За день он изрядно проголодался, а тут ему посчастливилось напасть на вкусную пищу — морда его ткнулась в копну свежего, только что скошенного ячменя. И только тут Евсей поднял голову и по частым огням на фоне темной Верблюд-горы понял, что находится вблизи Усть-Невинской.
«Придется заночевать под копной, — подумал Евсей, тяжело слезая с коня, который уже лакомился сочными колосьями. — Малость посплю, отдохну, а утречком я быстро разыщу Артамашова…»