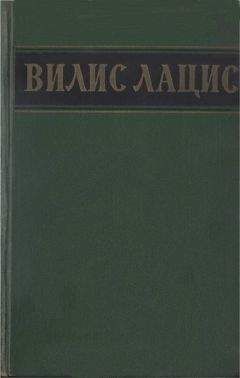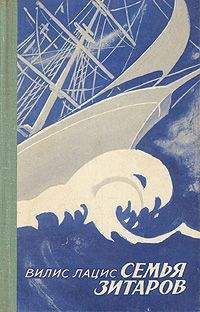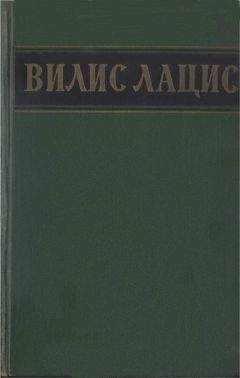— Мы как будто находимся во власти злых чар. Продукты, которые нами запасены на дорогу, кончаются, а мы еще с места не сдвинулись. На каждом шагу нужно давать взятки. Сегодня еще кое-что можно собрать для взятки, но скоро у нас ничего не останется за душой. Что будет тогда?
— Ты уже обращался куда-нибудь за помощью? — спросил Черняев.
— В эвакуационном отделе мы ежедневно говорим о своем положении, но они бессильны чем-либо помочь. Или просто не хотят помогать.
— В партийном комитете не был?
— Нет. Я ожидал твоего возвращения из командировки.
— В Чрезвычайную комиссию тоже носа не показывал?
— Не показывал. Да и что мне там делать — наш вопрос не политический. Он скорее относится к хозяйственным неполадкам.
— Вот ты у меня какой, — засмеялся Черняев. — Когда нужно было бороться за Советскую власть, ты знал свое место и умел обращаться с оружием, а сейчас, когда нужно помочь Советской власти осуществить справедливость и защитить честных людей от негодяев, ты не знаешь, с какого конца начать и где искать поддержку. Вот что я тебе скажу, мой друг, — Черняев сразу сделался серьезным. — Все, что происходит в нашей жизни, — политика. Если нечестные люди, в которых еще бродит ядовитая закваска старого мира, своими действиями компрометируют советские порядки, вымогают взятки и дезорганизуют хозяйственную и общественную жизнь государства, то это с их стороны такая политика, которую мы не можем оставить без отпора. И если ты видишь подобное, ты не смеешь молчать. Без промедления иди в Чрезвычайную комиссию и назови вещи своими именами. Если б ты это сделал, ваш эшелон давно находился бы за Уралом. Из Бийска я помогу вам выехать. Свяжусь с Барнаулом и позабочусь о том, чтобы ваш эшелон без задержки проследовал до Новониколаевска. Но весь путь следования я не могу вам обеспечить, не могу везде присутствовать. А вредителей и взяточников в настоящее время на железнодорожном транспорте больше, нежели ты можешь себе представить. И запомни раз навсегда: если на твоем пути встретится кто-нибудь из этих негодяев, знай, что за ним стоит враг, работающий против Советской власти и закона, и ты не должен бояться этого подлеца. На железной дороге существуют органы Транспортной чрезвычайной комиссии. Представителей этих органон ты найдешь на каждой крупной станции. Как только случится какая-нибудь заминка или с вами поступят несправедливо, без промедления иди в Транспортную чрезвычайную комиссию и попроси их помочь. И я ручаюсь, тебе всегда окажут содействие.
— Я это учту, — пообещал Карл. — Большое спасибо за ценный совет.
В присутствии Карла Черняев созвонился по телефону с Бийской чрезвычайной комиссией и просил поинтересоваться, для какой цели в вагонном парке стоят двадцать вагонов порожняка. Потом он закурил и долго в глубоком раздумье смотрел на Карла.
— Почему ты уезжаешь? — спросил он наконец. — Какое счастье надеешься найти в Латвии?
— А я и не надеюсь найти там счастье, товарищ Черняев, — ответил Карл. — Просто там… я буду полезнее, чем здесь.
— Ты волен поступать как знаешь, — продолжал Черняев. — Я совсем не пытаюсь отговорить тебя, хотя ты и здесь очень пригодился бы — я в этом уверен. Но хочу все же дать тебе товарищеский совет: не позволяй им, этим белым тиранам на своей родине, затуманить твое сознание и втянуть себя в их болото. Ты слишком порядочен и честен, для того чтобы стать чужим нам.
— Не беспокойся, дружище, — взволнованно отозвался Карл. — Не стану чужим. Тебе никогда не придется краснеть за меня.
Они поздно расстались в тот вечер.
…На следующий день, девятого октября, рано утром из вагонного парка вышли на дезинфекцию семнадцать порожних вагонов. В полдень объявили посадку тем семьям, которые жили еще под открытым небом. А вечером, пыхтя, подошел черный паровоз, его прицепили к первому вагону, и раздался перестук буферов. Это был нервный конь, с недовольным кучером: он дергал вагоны такими внезапными и мощными толчками, что люди валились с ног и на печках опрокидывались чайники. И все-таки это было радостное движение! Пусть дергает, трясет как хочет, — лишь бы двигаться. Беженцы втащили лесенки в вагоны, и никто больше не осмеливался выйти из них, хотя поезд простоял на станции еще несколько часов.
И вот в полуночный час, когда по крыше вагона барабанил дождь, а за окнами завывал ветер, станционный колокол прозвонил три раза, и на свисток кондуктора паровоз отозвался пронзительным гудком. Загремели буфера, состав дернулся, и колеса завели свою веселую песню.
Начался великий обратный перелет!
Янка всю ночь не мог заснуть. Он лежал у окна и смотрел, как в темноте проносятся мимо телеграфные столбы, купы деревьев, деревни, поля, и радостно думал: «Мы едем… Все-таки едем…»
Дребезжали стены вагонов, лязгали буфера, за окном выл ветер. Это была колыбельная песнь. Впервые после долгих месяцев сладко и безмятежно спали усталые путники.
3
Это был действительно необычный конь — черный, замасленный, покалеченный. Ему были присущи все качества норовистой лошади. Зная это, железнодорожники не прицепили сразу все сорок вагонов, а оставили десть из них в Бийске. Но и при езде с неполным составом паровоз временами останавливался. Простояв посреди степи час-другой, он набирался сил и плелся дальше. На полпути к Барнаулу паровоз оставил поезд и укатил назад в Бийск за оставшимися десятью вагонами.
— Если так будут везти всю дорогу, мы и к весне не доберемся, — рассуждали пассажиры.
— К какому-нибудь концу придем, — мрачно отшучивались другие.
Весь долгий день они томились на месте. Смотреть было не на что — голая равнина, редкая березка на краю степи и серое осеннее небо. Парни раздобыли дрова, и беженцы развели у полотна костры и варили картофель. Вечером возвратился паровоз с остальными вагонами, и ночью эшелон отправился дальше.
И странно, всякий раз, когда поезд останавливался, людей охватывало беспокойство, они не могли уснуть, но стоило эшелону тронуться, как все успокаивались и беспечно засыпали в темных клетках. Движению присуща успокоительная сила, и чем быстрее передвигался состав, тем спокойнее чувствовали себя беженцы.
В Барнауле беженцам сообщили, что они могут получить по фунту хлеба на человека, но для этого поезд должен задержаться до вечера. Они отказались от хлеба, хотя у некоторых осталось всего несколько сухарей.
И поезд отправился дальше. Урчали пустые желудки, во рту скапливалась слюна, и, обманывая себя, люди пили много чая. Необходимость примиряет со всем и заставляет преодолевать даже застенчивость. Одного только стыдились люди: обнаружить перед другими свой голод. Во время еды они забирались в самые темные углы вагона. А те, кто сидел на верхних нарах, поворачивались к соседям спиной, чтобы никто не видел, что и сколько они едят. У кого не было уже ничего, делали вид, что едят, долго жевали, чмокали губами и даже пытались изобразить отрыжку. У кого еды хватало, те скрывали свою состоятельность. Бренгулис, который вначале был недоволен нижними нарами, теперь сообразил, в чем их преимущество: там, внизу, всегда царила темнота, и если залезть подальше в угол, можно спокойно жевать полным ртом все, что бог послал. У тебя есть сало, масло, мед, белые сухари и целый мешок пшена. Откровенно говоря, ты бы мог ехать не волнуясь, если на какой-нибудь станции поезд и задержится подольше. А когда ты съешь все, то под рубашкой, в нательном мешочке, у тебя хранится несколько золотых червонцев. Но все же и ты не можешь хладнокровно видеть, как на другом конце вагона соседи забалтывают в теплой воде щепотку муки, и получается нечто похожее на коровье пойло. Довольно неприятная картина. Но еще неприятнее слушать, как маленький мальчик на верхних нарах говорит сестре:
— Айинь, я хочу есть. Нет ли у тебя сухарика?
Она совсем тихо что-то отвечает, шарит в мешке, но ты знаешь, что там ничего нет. И мальчик большими блестящими глазами смотрит на соседей, когда те сосут намоченные в чае сухари. Взрослые в таких случаях отворачиваются, делают вид, что не замечают, но ребенок не понимает, что смотреть неприлично. Ну что тут делать? Ты роешься в своем мешке и, прячась от других, пододвигаешь мальчугану несколько сухарей и сразу делаешь вид, что ничего не произошло. Стыдишься, но чего? Того, что у тебя еще есть право на жизнь, а у других его нет? Или того, что ты живым и здоровым пройдешь через испытание, а другие погибнут?
На полпути между Барнаулом и Новониколаевском, на станции Черепаново, поезд простоял целый день. Утром на тормозной площадке санитарного вагона лежал новый покойник — женщина. Она умерла ночью, и фельдшер вынес ее, чтобы родные похоронили. Делать гроб не было времени. Родные завернули покойницу в простыню и зарыли в кустах недалеко от железнодорожного полотна. После этого поезд шел без задержек до самого Новониколаевска. По утрам те, у кого в санитарном вагоне лежали близкие, шли к тормозной площадке. Вторым покойником оказался маленький мальчик, третьим — какой-то одинокий старичок из Малиены [14]. Освободившиеся после них места в санитарном вагоне занимали новые больные.