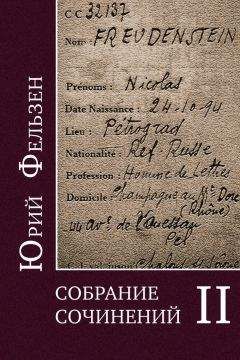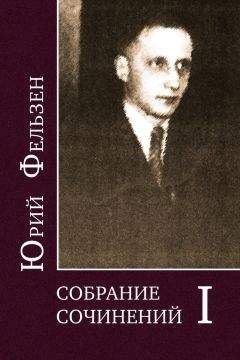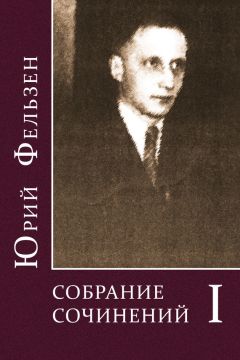А раскалиться было от чего. 3. Н. Гиппиус высказывала в докладе свою обычную непримиримость и твердость, неизменную в отношении того, что имеет малейшее касательство к большевикам. Молодежь, как всякая молодежь, не остановилась на этом и пошла еще дальше. Один за другим выступали молодые поэты Довид Кнут, Нина Берберова, Терапьяно, с громогласным заявлением, что в советской России литературы, да и вообще искусства нет, что живо ее продолжение только за рубежом, в эмиграции, что в Париже зародилась молодая русская литература. Кто-то дошел до самонадеянного утверждения, что «Париж – столица русской литературы», утверждения, впоследствии ставшего темой самых яростных споров.
С жестокой отповедью выступил неожиданно Талин (Иванович), старый социал-демократ, правый меньшевик, известный когда-то сотрудник петербургского «Дня», а сейчас «Последних новостей», редко говоривший о литературе. Его специальность – вопросы политико-экономические, и в своем деле он, кажется, человек знающий, к тому же горячий полемист, язвительный оратор.
Талин постарался разбить доводы молодых писателей. «Столица русской литературы», конечно, Москва. Дальше следовало обычное утверждение, что нельзя писать без родного воздуха, без почвы, без дома, если «дома» происходит такая коренная перемена. Когда-то, в одной анкете, Алданов кратко охарактеризовал подобного рода соотношение эмигрантской и советской литературы:
– Необходимые для писателя условия – родина и свобода. У нас нет родины, у них нет свободы.
Вывод получался пессимистический. Но и Талин и его молодые противники в «Зеленой Лампе» думали иначе. На поддержку молодежи с неожиданной запальчивостью выступил Мережковкий. Его оратором назвать нельзя. Он в своих выступлениях дружественно настроенный собеседник и в то же время необыкновенный актер. Говорит, особенно вначале, как будто бы с вами одним, с вами вместе ищет, соглашается, вас же мягко убеждает. Затем вдруг вспылит, вспомнит что-то, что вызвало его негодование, и тогда вся речь – язвительное, беспощадное, безостановочно-нарастающее обличение, с каким-то странным смехом, от которого становится иногда жутко. Успех таких обличающих его речей всегда большой и для противников оглушительный.
На этот раз Мережковский обрушился на Талина, задавая ему язвительные вопросы, разбивая его построения, доказывая, что сейчас России нет, что СССР – нечто совсем другое. Талин, бледнея, его перебивает:
– Там все-таки Россия.
– Нет, СССР.
– Россия!
– СССР!
В этом сопоставлении был как бы голый скелет огромного, по существу, вопроса, длительного неразрешимого спора, конечно, не разрешившегося и на том памятном заседании.
Бывали и собрания гораздо более мирные, с добродушными репликами, с явным сочувствием публики. Особенным успехом пользовался традиционный ежегодный вечерстихов, на котором выступали не только участники «Зеленой Лампы», Мережковские, Злобин, Адамович, Георгий Иванов, Одоевцева, Оцуп, а из молодых Ладинский, По-плавский, Терапьяно, Довид Кнут, но и частые ее гости или прежние участники: Бунин, Ходасевич, Берберова, Кузнецова. Помню случаи, когда в конце вечера к председателю подходили русские рабочие или шоферы и трогательно благодарили за стихи, далеко не легкие и не всем доступные.
Отдых и отвлечение для публики – маленькие споры между супругами Мережковскими. Нередко, когда Дмитрий Сергеевич более всего воодушевится, Зинаида Николаевна вдруг перебивает его своим капризным ироническим голосом:
– Ну, поехал!
Или:
– Дмитрий, это совсем не к делу!
Дмитрий Сергеевич в таких случаях на минуту теряется.
– Нет, уверяю тебя, это к делу.
Впрочем, Зинаида Николаевна не всегда бывает столь безжалостноиронической. Имеются области, в которых она неизменно серьезна, к которым относится с каким-то некритикующим, неосуждающим сочувствием, в частности, ко всему касающемуся борьбы с большевиками.
На собраниях «Лампы» выступали не только профессиональные литераторы, журналисты, политики, но и люди из публики, иногда чрезвычайно любопытные. Так, одно время на каждое собрание являлся и часто выступал замечательный в своем роде человек, Петр Иванов Старый, почтенный господин, внешне удивительно чистый и аккуратный, с серебряно-седыми волосами, с белой выхоленной бородой и румянцем, что называется, во всю щеку. Петр Иванов стал некоторому кругу лиц известен еще в большевистской Москве. Там он безбоязненно произносил церковные проповеди, ходил из дома в дом, утешая больных, помогая, кому и чем можно. То же самое делает он и в Париже, обходит больницы, отыскивая тех русских, у которых нет ни родственников, ни друзей, и заставляя богатых соотечественников им помогать. Петр Иванов – истинный христианин. Он признался, что молится и за большевиков, которых считает попросту заблуждающимися. В его выступлениях, в самом голосе есть у него что-то благожелательно-доброе и приятно видеть, как он, став рядом с очередным оратором и приложив руку к правому уху из-за глухоты, внимательно слушает кощунственные порою, с его точки зрения, слова.
На одно из собраний «Лампы», посвященное вопросу о взаимоотношении христианства и юдаизма, был приглашен известный еврейский деятель Гилель Златопольский, киевский сахарозаводчик и посейчас крупный делец. Златопольский самоучкой сделался выдающимся ученым юдаистом, и его выступление в «Лампе» умное, осторожное и тактичное, было в свое время сенсационным.
Едва ли не самыми сенсационными собраниями оказались два «вечера о любви». Публика соблазнилась этим названием и наплыв ее был такой, что половина не могла попасть. Каждому из участников предложили выбрать какой-нибудь род любви или какое-нибудь ее свойство и только об этом говорить. Так, например Тэффи говорила о божественно-христианской любви. Одоевцева – о любви-жалости, Поплавский – о любви «роковой». Оцуп – о героической любви «старосветских помещиков», сохранивших ее наперекор старости и однообразной жизни. Мережковский выбрал тему для русской публики новую, и, казалось бы, щекотливую – о «сексуальных меньшинствах» – но горячая его речь была выслушана серьезно и по-взрослому.
Правда, в конце последнего вечера неизвестный, подписавшийся «рабочий из Биянкура», неожиданно подал весьма странную записку. В ней говорилось, что русскому народу нет дела до каких-то изощренностей и беспочвенных вопросов, которыми занята интеллигенция, что народ уже однажды ее по заслугам бил «слева направо» и вскоре будет еще бить «справа налево».
Прочтенная вслух эта записка сочувствия у публики не встретила, но всё же навела на грустные мысли о вечном расхождении духовных верхов и низов, о том, что находятся люди, для которых вопрос «о любви» беспочвенный, а не насущный, не самый главный в теперешних русских условиях. Нечто по этому близкое сказал тогда Мережковский, кажется, выразивший общее мнение участников собрания.
Грустное чувство испытываешь, когда в одном городе теперешнего русского рассеяния случайно попадаешь на собрание русской молодежи, затем увидишь то же самое в другом городе, далеком и незнакомом. Откуда эта упорная склонность заниматься делом, как будто бесцельным – писать для кого, для какого читателя – и притом еще безнадежно-невыгодным? Кажется, нечто похожее происходит и в тех многочисленных беженских столицах, где мне побывать не пришлось. Представляю себе, что так же где-то собираются и что-то обсуждают «мальчики и девочки» (и, конечно, люди постарше) в Москве, в Петербурге, в загадочной для нас и, вероятно, мрачной, вероятно, жалкой советской провинции. Ведь не все же там веруют в Маркса и без колебаний идут за его пророками.
Можно было бы подумать, что всё это – прежние студенческо-гимназические самообразовательные кружки, но и такие, по-видимому, везде имеются; в тех же немногих литературных кружках, которые я знаю, и по которым (разумеется, гадательно) сужу об остальных – в них в большей или меньшей степени есть доля студенческого и наивного, однако же есть и какой-то явный профессионализм, писательские поиски, пытливость и нередко – беспощадная взаимная строгость.
Всем этим старательным и добросовестным молодым людям придется немало над собой поработать и помучиться – больше, чем их «братьям по судьбе» – молодым литераторам в любое другое время – чтобы чего-нибудь положительного достигнуть. Я говорю не о внешнем успехе, хотя и он труден, как никогда, но о той подготовительной работе, без которой невозможно обойтись. Каждому надо нащупать, найти свою технику, свой способ себя передавать – и в этом отношении у теперешней русской молодежи нет ни руководителей, в высоком смысле, ни самых обыкновенных учителей.
Азбучной мыслью является, что всякая эпоха требует непременного своего выражения и люди других поколений не совсем правильно ее предчувствуют, не совсем точно впоследствии о ней знают. Вот почему, как бы нам ни были дороги Лермонтов, Гоголь или Толстой, – они говорят о своем, а не о «нашем времени», и учиться только у них недостаточно. У кого же учиться именно о «нашем времени», кто поможет нам преодолеть писательский «приготовительный класс»? Не всем же дано быть Ломоносовыми, да и стоит ли на приготовительный класс тратить половину жизни? Были же когда-то школы, направления, взаимная их критика и борьба, возможность одну из них выбрать, к ней присоединиться или, от нее отталкиваясь, найти что-то свое.