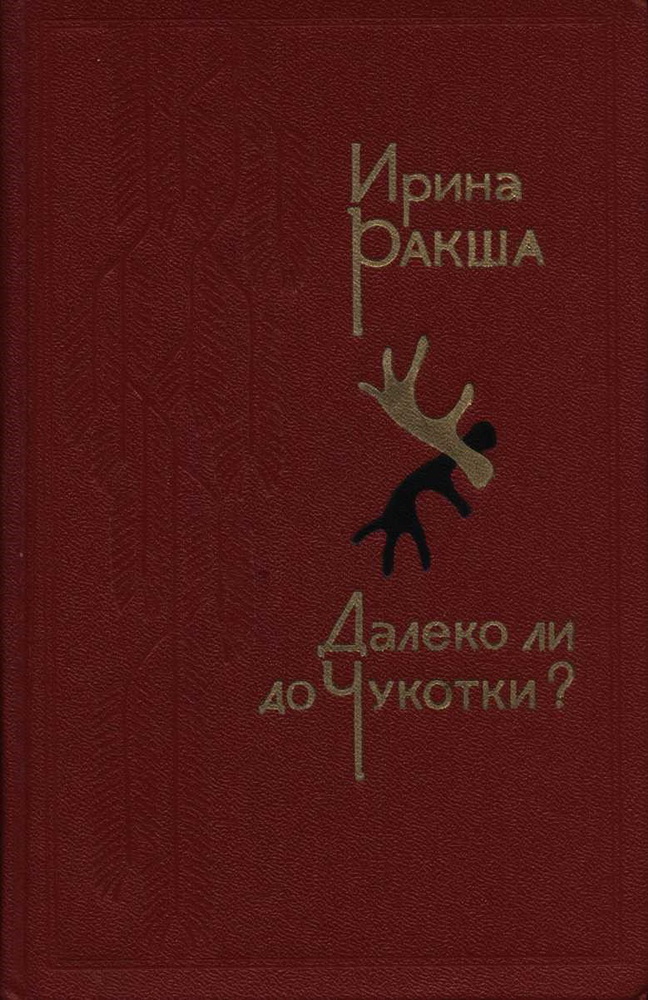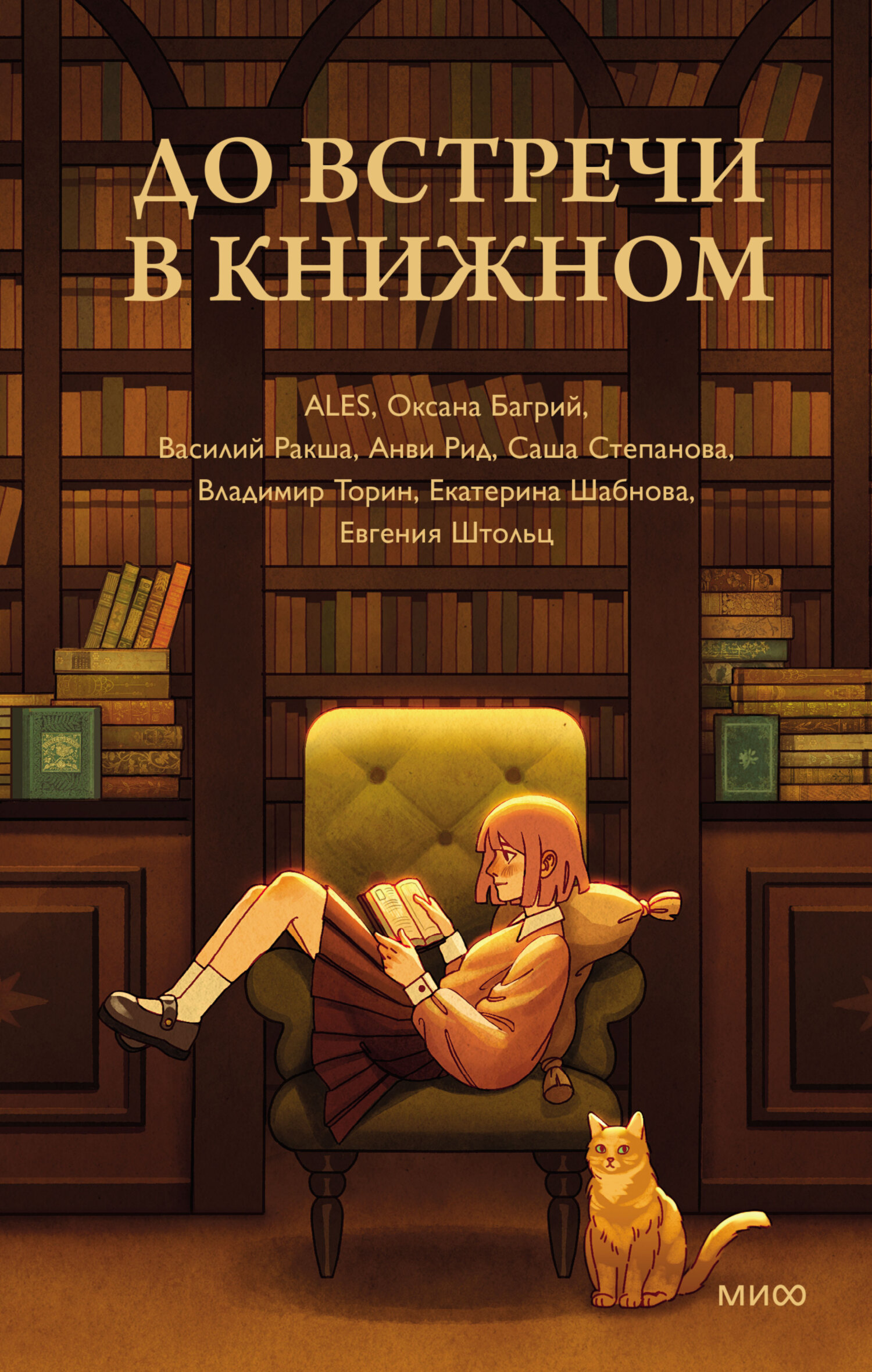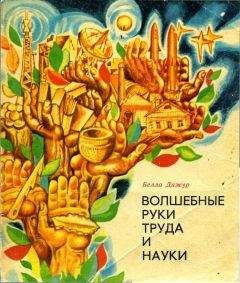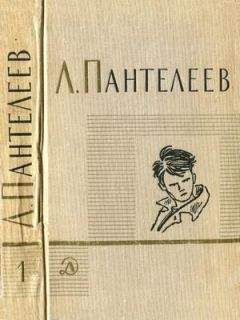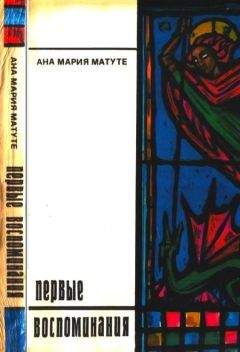этот холодный, мерцающий огнями город за узким высоким окном, и этот горшок на подоконнике с продрогшим цветком, который она переставила на стол, и все это множество увиденных лиц и примет уже коснулись ее, запечатлелись помимо воли. Но главное, как внушала она себе, ждало ее теперь там, на Чукотке, на берегу океана, где ездили на собачьих упряжках и жили в яранге, крытой оленьими шкурами, среди льдов и снегов охотники Тыныквай. А может быть, главное жило еще дальше, в том времени, когда будет написан и напечатан ее материал и когда наконец она докажет всем, и прежде всего самой себе, чего она сто̀ит.
Как все-таки часто кажется нам, что главное — впереди, а то, чем мы живы сейчас, сегодня, не важно и не значительно. Оно буднично течет мимо — непримеченное, неоцененное. Но вдруг с годами это сегодняшнее оказывается большим, а может быть, самым главным, что было у нас в этой быстротекущей жизни. Тем, чего мы вовремя не оценили, не поняли, пропустили.
Галя стояла у окна, касаясь пальцами холодного стекла. Смотрела, как над городом плыли, клубились густые дымы, розовато подсвеченные снизу огнями улиц, светом домов. Полярный город обогревался в ночи, дышал, пульсировал, был полон движением фар и огней, шуршанием шин по заснеженным улицам, хлопаньем магазинных дверей, выпускающих клубы белого пара, морозным дыханием торопливых прохожих, острым скрипом снега под валенками и унтами. За каждым из сотен светящихся окон шла своя, непричастная к ней жизнь. И вспомнилась чья-то грустная строчка: «Суббота в городе чужом, ах, в городе чужом суббота…»
В коридоре слышались гулкие голоса, шаги. Стукнула дверь в соседнем номере. Галя принялась складывать в свой «командировочный» портфель полотенце, мыло, щетку. Не спеша ходила по комнате, собирая вещи. И все — в два шага, от раковины к столу, от стола к кровати, ноги в просторных, необношенных валенках непривычно жестко и бесшумно ступали по облупившимся половицам. Валенки ей привез Виктор совсем неожиданно, за час до ее отъезда в аэропорт. И Галя догадалась, что это мамина работа. По телефону. Тайком от нее. Он стоял, часто дыша, в полутемной передней с валенками в руках. На третий этаж, как всегда, перемахивая через две ступени, он резко взбежал, как взлетел, хлопая жесткими полами своей серой шинели. Внизу его ждало такси. В полутьме светлое пятно лица было недвижно, чуть поблескивали пуговицы, мелкие лейтенантские звездочки. Свежо пахнуло уличным ветром и кожей. Спросил волнуясь, сдавленно:
— Я тебя провожу?
— Зачем? Не надо. У меня только портфель. И вообще ты зря прискакал. Опять в самоволке?
Он помолчал.
— Ну, будь… Будь там молодцом. Ты же умница.
Она вздохнула устало, по-матерински:
— Да не волнуйся. Я ж не на полюс. — Он оставался для нее все тем же Витькой — дворовым мальчишкой, вечно простуженным, шмыгающим носом Витей-Хрюней, с руками в цыпках и нарисованными на ногтях рожицами. Он играл с девчонками во все шумные дворовые игры — до пота, до исступления, до темноты. А позже, уже в десятом, молча, хвостом таскался за ними в парк Горького и на танцы, покупал мороженое. Но они никогда не принимали его всерьез.
А для него Галя, Галка Бочурина из второго подъезда, — с гладкой прической, лукавой усмешкой на лице, быстрым поворотом маленькой головы, нежная и порывистая — все эти годы была единственным светом, и он с постоянством, с отчаянностью тянулся на этот свет.
В кухне лилась вода. Уютно играло радио. А Виктор все стоял с валенками в руках и молча смотрел на ее белеющее в полумраке лицо, шею, не смея шагнуть, решиться на что-нибудь.
— Ну, не горюй. Командировка всего на семь дней, — говорила она. — Больше не дали. Фонды кончились. Конец года. Так что через неделю буду… Ой, Витька, Витька! — И улыбнулась, ободряя его их старой детской считалочкой: — Ры-ба, ры-ба, ры-ба-кит, — произносила она по слогам, слегка касаясь пальцами то шершавой, холодной еще шинели, то кружева своей блузки, — ры-ба прав-ду гово-рит…
В освещенном проеме кухонной двери на мгновенье возникла темная фигура матери и сразу тактично исчезла.
— Ну хорошо, спасибо. Иди, — строго сказала Галя, забирая у него валенки, — иди, а то тебя опять в части хватятся.
И прежде чем скрыться за дверью, он быстро склонился и, приподняв на ладони, поцеловал ее косу.
* * *
Где то внизу, под полом, словно в самой утробе гостиницы, родилась приглушенная музыка — это в ресторане заиграл оркестр. Теперь он будет слышен до ночи, и чаще прочих будет звучать удалая песенка, очень «северная» и очень любимая здесь: «Ты прости, капитан, ах, ты прости, капитан, у нас у каждого свой талисман…» Песню так заиграли, что Галя знала уже почти все слова, даже мысленно повторяла их в такт резким созвучьям: «Ах, ты прости, капитан…» Из-под кровати достала тапочки. Аккуратно уложила их в портфель, туда же спрятала теплую кофту маминой вязки. Она не хотела ее брать с собой, но мама сунула. Открыв молнию бокового кармана, проверила блокнот и ручку, захваченные из Москвы. Машинально взяв блокнот в руки, полистала страницы, скрепленные металлическими колечками. Блокнот был почти пуст. Кроме нескольких первых страниц, исписанных ее неразборчивым почерком. И, глядя на эти страницы, она внезапно вспомнила: ведь это тот самый блокнот. Тот самый! Начатый прошедшей осенью в ее последней неудачной командировке, на строительстве Зейской железнодорожной ветки. Он был почти пуст. А ведь как интересно началась тогда командировка в ту самую лучшую, как ей сказали, партию на всей трассе… Галя села на скрипучую гостиничную койку и, неожиданно взволновавшись, пробегала глазами собственные давно написанные строки:
«…Вертолет был уже над участком. Одну за другой они огибали желтые к осени сопки. Неожиданно открылась лента реки — в пятнах розовых облаков. На берегу сквозь кроны сосен уже стал различим крохотный палаточный городок, дым человеческого жилья. «Банька! Чую, банька будет!» — придерживая наушники и глядя через стекло вниз, прокричал пилот. С гулом, с дрожью вертолет на мгновенье завис и стал вертикально опускаться. Навстречу плыли: склон сопки, вершины деревьев и люди, бежавшие от палаток на берег. Синяя стрекозиная тень, все уменьшаясь и уменьшаясь, покачивалась на каменистой речной отмели. И вот наконец вертолет слился с ней, сел… Встречали шумно. Выгружали мешки с почтой, продукты, бочки с горючим. У рабочих обветренные, загорелые лица, брезентовые линялые робы, лихо хлопающие сапоги с завернутыми голенищами. Все было так знакомо, словно кадры кинохроники. Наспех здоровались, наспех знакомились, шли к палаткам. У ног, повизгивая,