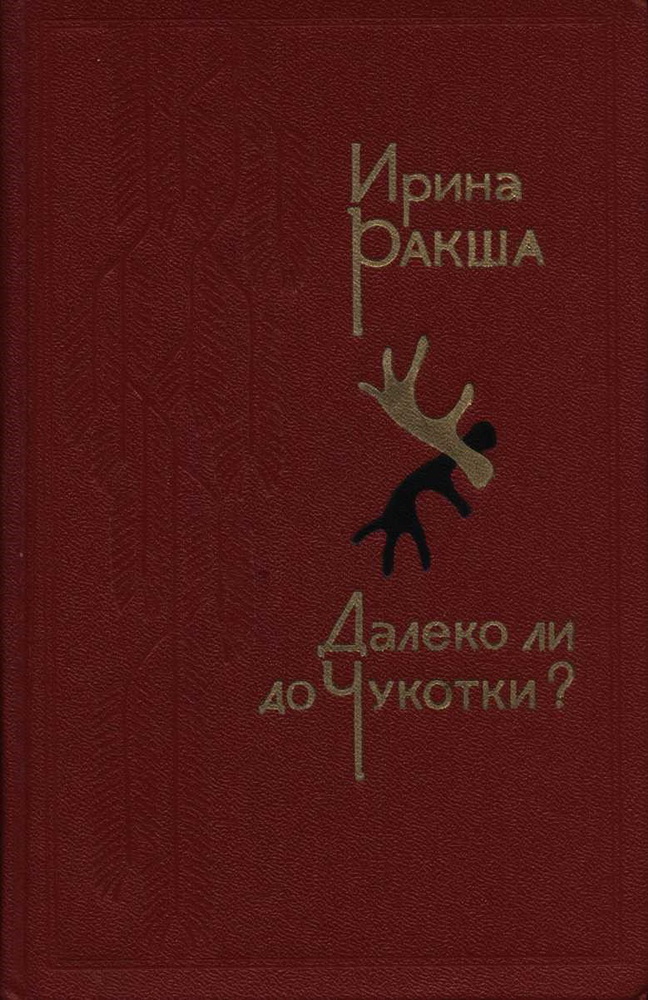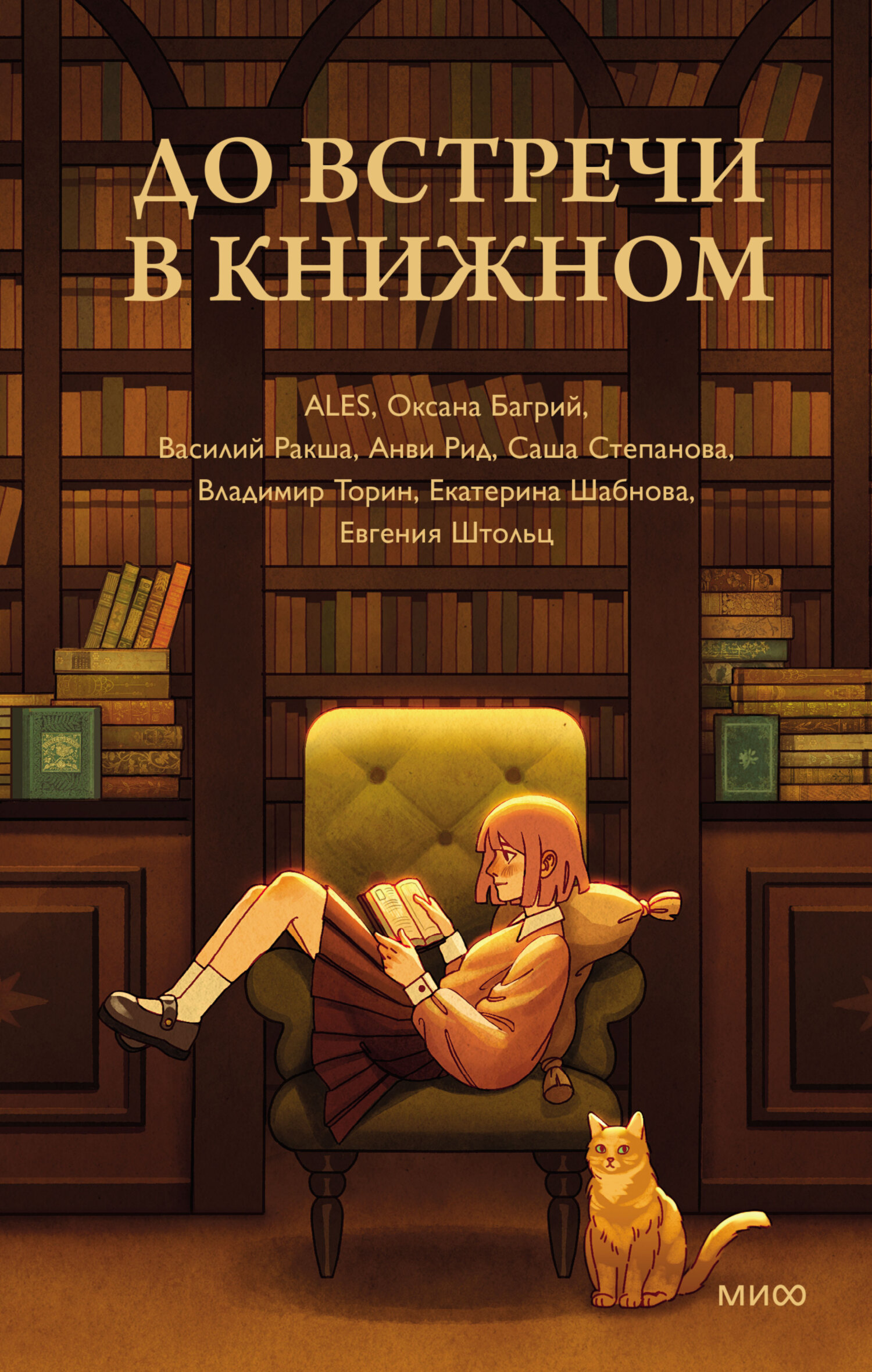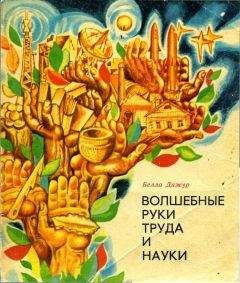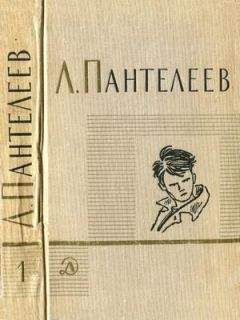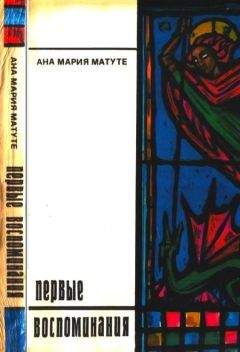лишь ее темную, мелькающую в зарослях спину.
В камышах он отстал, совсем обессилел и, скуля, покорно лег на холодную землю. Его сердце билось, казалось, у самой глотки, не давало дышать. Кровь, как свежая краска, расползалась под брюхом. Волчица метнулась назад, зло куснула его, поднимая, и опять повела камышами на твердый берег к реке.
А люди с пыхтеньем и топотом тяжело бежали по мерзлой седой земле, по кровавому следу, как по раздавленным ягодам. В ледяном вязком болоте, чертыхаясь, ломились по камышам.
Выскочив к реке, подернутой паром, волчица с разбегу кинулась на тонкий, звенящий лед припая. Он проломился, и она поплыла по жгучей воде, вскинув морду и все оглядываясь на волчонка. А он, ошалев от страдания, метался по берегу у самой воды. Скулил и фыркал, принюхиваясь. Горячие красные капли стекали по светлым лапам. Когда же в болоте хруст камышей стал отчетливей, ближе, он с ужасом ступил в черную воду и, погружаясь в нее теплым мехом, с трудом рывками поплыл вслед за матерью.
Болотистый берег, оставленный позади, удалялся. Над рекою по небу неслись низкие тучи. Низовой ветер дул по течению, и потому вода была гладкой, свинцовой.
Камыш трещал, ломался под сапогами, калошами. Сквозь него, запыхавшись, тяжело дыша, продирались люди с ружьями в замерзших руках. Наконец Зикан и Любшин, грязные, измученные, первыми выбрались на твердый берег.
— Эх, язви тя! Ушли! — Любшин хлопнул себя с досады. Он был без шапки, та где-то слетела дорогой. — Вот бестия! Подранок, а силищи сколько!
— Ничего, не уйдут, — мстительно усмехнулся Зиканов и взвел курки.
Прижимая острые уши, волки плыли к спасительному темнеющему впереди лесу. Волчица рассекала грудью ледяную густую воду, напряженно работала лапами, и косые, тяжелые волны, разбегаясь от морды, тянулись следом, рисуя клин. И в этом клине, рывками, двигалась голова волчонка. Он плыл тяжело, задыхаясь, и, хотя в ледяной воде уже не чувствовал боли, холод сковывал тело, сводил непослушные лапы.
Один за другим на берег выбирались и остальные охотники. Увидав на реке волков, обрадованно, азартно стали вскидывать ружья.
— Не лезьте! Пусть Зикан стреляет! Пусть он сам! — Любшин суетливо бегал по берегу, хрустел кустами. — По подранку бей! Целься лучше! А я матерого возьму!
Волчонок совсем выбился из сил. Мать заволновалась, повернула к нему, и они поплыли рядом, совсем близко, голова к голове. Но он уже стал захлебываться, поводя в испуге глазами. Она пыталась схватить щенка за загривок, как маленького, но волны от ее движения захлестывали его, и она клацала зубами, хватая пустую воду.
На берегу замерли, затаили рвущееся дыхание, глядя, как Зикан и Любшин выцеливали волков сквозь мушки.
— Давай, — наконец выдохнул Любшин.
И в сопках загрохотало, загремело два раза подряд.
Щенок захлебнулся волной, захрипел. Страшная тяжесть потянула его на дно. Он последний раз втянул носом студеный, предзимний воздух, и ледяная вода навсегда сомкнулась над ним. Над мордой его, над глазами. И, медленно погружаясь во тьму, он еще видел вверху над собой свет неба и тень своей матери.
— Готов! — надсадно заорали на берегу.
— Второго лупи! Залпом бей!
И опять в сопках разом загрохотало, как будто бы при расстреле.
— Ах ты, паскуда! Плывет ведь, а? Уходит! Ну, погоди! — и начали палить уже вразнобой, как придется, торопливо перезаряжая ружья.
Волчица наконец почувствовала под ногами твердь, рванулась из последних сил из воды и, не отряхиваясь, поплелась к лесу.
По ней палили еще, но, когда все стихло, дальний берег был пуст. У воды полоской тянулся серый кустарник, ветер раскачивал голые плети корявых ветел, а темный лес вздыхал и молчал, глядя людям в лицо.
Любшин отвернулся с досадой:
— Ушел-таки. Эх, ушел… — И почувствовал, как замерз, как начинает ломить промокшие ноги, как седые волосы раздувает ветер.
— Ничего! — подбадривал Зикан. — Все равно подохнет. Не может быть, чтоб не попали. Столько ружей. А с нас и тех троих молоденьких хватит. — И весело подмигнул: — На ящик вермуту наработали, верно?
Но после погони люди уже приходили в себя. Усталые, грязные, потные, они отряхивались, осматривались, и ничего радостного, ничего победного на их лицах почему-то уже не было. Каждый чувствовал какую-то опустошенность, неловкость. Кто-то застегивал ватник, кто-то искал рукавицы, тер красные, озябшие руки. И сам Любшин стоял растерянный, ни на кого не глядел и все шарил глазами по камышам, искал свою шапку.
И только Зикан бодро притопывал, усмехался:
— А ловко я этого саданул, а? Прямо талан, а? — И уже деловито осведомился — Лапы здесь рубить будем? Нынче за одни лапы денежки платят. А шкуренки возьмем на шапки. Верно я говорю?
Но Любшин молча закинул ружье на плечо и, хмурясь и отчего-то досадуя на себя, пошел в лес по своим же топким глубоким следам. С этой дурацкой погоней он даже не помнил, где шапка слетела. Нехорошо. Совсем голову потерял.
В ноябре все сыпал и сыпал сухой частый снег. Он мягко выбелил землю, сопки, леса и поля. Везде стало чисто, светло, как в доме. А в морозные, ясные ночи в лесу под луной снег мерцал синим светом и лежали длинные черные тени.
И над этим прекрасным, сказочным миром, как покинутая душа, все витал глухой, одинокий вой. Он тихо рождался, как будто из недр, звучал в ущельях, у насыпи и за рекой.
А однажды на бледной заре родился на вершине горы, у подножья которой лепились когда-то жилые вагончики. Но теперь их там уже не было. Лишь поземка мела по шпалам. Люди покинули эти места и двинулись дальше, чтобы прокладывать новый путь и новыми звуками будить эту землю.
— Алё, старушка?.. — «В Ледовитом океане белые медведи соскучились по тебе».
Галя сразу узнала шутливый голос Лукашина. Это у них повелось с первого дня ее прихода в редакцию — разговаривать легко, небрежно, словно скользя по поверхности, но постоянно знать, что за этим скрывается нечто совсем иное, потаённое, нежное.
Она улыбнулась:
— «А туда как лучше добираться? Поездом или самолетом?»
Было воскресенье, и Галя лежала в теплой постели под одеялом. На кухне мать звякала посудой, готовила завтрак. В раме белых тюлевых штор за белым окном летел снег. Картинно перечеркивал белым кружево черных ветвей в сквере, и белый косой его полет отражался в черной крышке рояля посреди комнаты. Снег словно старался забелить, замести черноту и все не мог. Галю обрадовал и голос Лукашина, и мамин