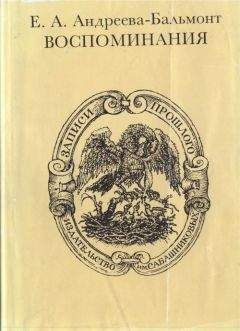Андрей Луговинов, не ожидавший встретить незнакомую компанию, немного растерялся и в первую минуту не смог ничего ответить, но, оправдываясь, сделал общий поклон и сказал:
— На вокзале задержался. Уезжала моя землячка, я дал ей письмо для матери, написал, что приеду потом, оформил перевод на другой фронт и завтра направляюсь туда.
— Тогда выговор снимается. Матери надо сообщать в первую очередь.
— Поезд здорово опоздал. Проторчали ночь на вокзале, только сейчас впихнул ее в вагон и не уходил, пока поезд не скрылся. А то бывает — двинется, паровоз потом начинает фыркать и отбрыкиваться, словно необъезженная лошадь.
— Бывает, все бывает, — засмеялся Лукомский. — Ну, знакомьтесь, кто с кем незнаком.
Взглянув на Андрея, я почувствовал — парень дельный. Мне нравились его серьезные глаза и отсутствие улыбки, с которой я почти не расставался.
Лукомский подошел ко мне и отвел к окну. Потрогав бархатную портьеру, сказал:
— Любили бархат баре. — И после небольшой паузы: — Завидую вам.
Я посмотрел на него удивленно.
— Вы видели Ленина, слышали его. Вчера перечитал ваши статьи в «Известиях». Корреспондент. Это слово я знал, когда еще был слесарем на заводе в Харькове. Корреспондент на таком съезде — это значит первым слышать то, о чем потом пишут в газетах, и своими глазами видеть, что другие никогда не видели и не увидят. Вот почему я вам завидую.
Я был поражен. Казалось, что Лукомский читает в моей душе то, что я переживал, когда слушал Владимира Ильича. И я вдруг выпалил:
— Хочу на фронт.
Лукомский все понял. Он крепко сжал мою руку и ответил:
— Будет сделано. — С этими словами вынул из кармана блокнот, написал несколько слов. — Ответ получишь через несколько дней…
К нам подошел Рыбакин.
— Что за конспирация? — спросил он.
— Это не конспирация, — засмеялся Лукомский, — Это переход от слов к делу.
Семен обо всем догадался и с нескрываемой грустью произнес:
— Но этот переход много трудней, чем через Альпы.
— Как для кого, — улыбнулся Петр.
После этого я начал прощаться с Петром Ильичом, который доставил мне большую радость своим приездом и помощью. Поднялся и Сеня Рыбакин.
Андрей Луговинов вызвался проводить нас до вестибюля.
Лукомский обнял меня и сказал полушутя-полусерьезно:
— Я рад, что ты с нами. Иначе не должно быть. Ты сам знаешь.
Когда мы вышли из номера, Андрей сказал:
— Завтра я уезжаю с Петром Ильичом на фронт. Могли бы вы уделить час для важного разговора? Дело касается вашего друга Софьи Аркадьевны.
— Сони? — удивился я.
— Для вас — Соня, для меня — Софья Аркадьевна.
— Но откуда вы ее знаете?
— Если у вас найдется свободный час, я вам расскажу.
Я посмотрел на часы.
— В восемь часов приходите в кафе «Домино»: Тверская, семь. Вход свободный. Спросите меня.
Было без четверти восемь. Я пришел в «Домино». У входа встретил Мариенгофа.
— Рюрик, ужасно неприятная история.
— Что случилось?
— Пришли несколько чекистов, явно навеселе, а не впустить нельзя. Двое из них в матросской форме… Понимаешь, чем это пахнет?
— Надо позвонить в комендатуру.
— Ну а там кто, не чекисты, что ли?
— В комендатуре настоящие чекисты.
— А эти — фальшивые?
— Ты что, не понимаешь, что происходит?
— Я не вращаюсь в высших сферах.
— При чем тут высшие сферы? Все знают, что левые эсеры, пользуясь покровительством наркома юстиции Штейнберга, пропихиваются в аппарат ВЧК и всяческими авантюрами стараются скомпрометировать эту организацию в глазах населения.
— Не знаю, на лицах этих матросов не написано, кто их впихивал в ВЧК — Штейнберг или кто другой.
— Ты же сказал, что они пьяны. Это и есть доказательство того.
— Что они левые эсеры?
— Да, авантюристов набирают левые эсеры.
— А большевистские чекисты ангелы, не пьющие и не курящие. Ты идеализируешь все, кроме здравого смысла. Я умываю руки. Раз ты такой знаток тонкостей ВЧК, то и звони в их комендатуру.
— Ты говоришь про комендатуру, будто это что-то чужое.
— Да, чужое.
— А Советская власть?
— Родная.
— Но если родная тебе власть организовала это учреждение, то как оно может быть чужим?
— Не занимайся демагогией и софистикой. В любом государстве правительство организует такое учреждение, а народ обходит его стороной, не желая соприкасаться.
— У тебя старорежимные взгляды.
— Ты сегодня просто невыносим, — надулся Мариенгоф и отошел в сторону.
Я оглядел столик, за которым сидели два матроса и один во френче. Они оживленно беседовали и вели себя прилично. Звонить в комендатуру не было повода.
В дверях показался Андрей, и я подошел к нему.
— Вот наше логово. Нравится?
— Ничего. Но для меня это непривычно.
— Что именно?
— Да как вам сказать… На вокзале по-другому.
— На каком вокзале?
— Да хотя бы на Павелецком. Теснота. Давка. Рев детей. А здесь музыка, столики накрыты розовой бумагой, люди никуда не торопятся.
— В Москве не одни вокзалы. Есть, например, и «Метрополь».
Андрей улыбнулся:
— Ну, «Метрополь» на день, на два…
— Раз существует то и другое, пусть стоит на месте, а мы пойдем в комнату правления и поговорим.
Я взял Андрея под руку и, обходя столики, повел во внутреннее помещение кафе.
— Сегодня заседания нет, и нам никто не помешает.
— Вы не удивились, когда я навязался на разговор о Софье Аркадьевне, которую видел всего один раз?
— Я привык ничему не удивляться. Я очень дружен с Соней, и все, что ее касается, мне дорого и интересно.
Тон мой, естественный и теплый, пришелся Андрею по душе, и он легко и просто рассказал о своей встрече с Соней, о том, как провел с ней почти целый день, и о догадках, что Соня переживает сердечный кризис. Он не скрыл, что, по его мнению, причина ее страданий — любовь к Лукомскому, хотя никто из них не говорил ему об этом ни слова.
Я оказался в затруднительном положении. С одной стороны, мне хотелось говорить с Андреем, который производил хорошее впечатление, и найти способ облегчить страдания Сони, а с другой — понятие чести не позволяло сказать, что я знаю все от самой Сони и посвящен в ее любовь к Петру Ильичу. После долгой паузы я сказал:
— Я ничего не знаю ни о любви Сони к Лукомскому, ни о ее страданиях. За последнее время она изменилась, стала грустной, нервной. Дружбу между мужчиной и женщиной нельзя равнять с мужской дружбой. То, что рассказали бы мы друг другу, если бы были близкими друзьями, женщина не может рассказать, несмотря на большое доверие.
— Но Лукомский ваш друг, значит, должен был рассказать?
— А если он сам ничего не знает об этом?
— Но ведь теперь-то знает.
— Вы думаете?
— Уверен.
— Он вам говорил?
— Нет. Он меня не считает близким другом, мы только познакомились.
— Вы считаете, что мне, как близкому другу, он должен рассказать все?
— Так, по крайней мере, получается из вашего определения мужской дружбы.
— Это не абсолютный закон. Я рассуждаю теоретически, исключения бывают. Я на его месте поделился бы, а он, очевидно, не успел или не хочет. Все это, разумеется, в том случае…
— Я не ошибся! — твердо сказал Андрей.
— Что вы предлагаете?
— Я слишком мало знаю Софью Аркадьевну. — И после паузы добавил: — Поэтому и решил с вами посоветоваться.
Я понял все: Андрей сам влюбился в Соню и, как благородный человек, хочет выяснить, не влюблен ли в нее я. Мне стало весело.
— Во всяком случае, я вам бесконечно признателен, что вы, посторонний человек, приняли такое трогательное участие в судьбе Сони. Меня это взволновало до глубины души, потому что такое отношение к чужому человеку в жизни встречается редко. Не знаю, как вам объяснить, но мы с Соней так же далеки от любви друг к другу, как это было бы, будь мы братом и сестрой.
Я ожидал, что лицо Андрея просияет, но этого не случилось. Оно было спокойно, и на нем не дрогнул ни один мускул. Мне сделалось неловко. Неужели ошибся? Неужели он не верит, что бывают высокие чувства сострадания? Или думает, что только он один способен испытывать это?
— Я еще не любил по-настоящему, — произнес вдруг Андрей, сам не ожидая этого признания. — И мне делается страшно, что я могу оказаться в ужасном положении, как и Софья Аркадьевна. Если бы я мог помочь ей, — продолжал он, — сделал бы все, даже невозможное.
— Если бы не фронт, все было бы по-другому, — задумчиво произнес я.
— Скажите правду, вы ведь знаете Софью Аркадьевну давно и хорошо. Как вы считаете, станет ей легче хоть немного, если я приеду и скажу: «Может быть, наша случайная встреча и есть то, что люди зовут Судьбой. Если я вернусь с фронта, вы примете меня?»?