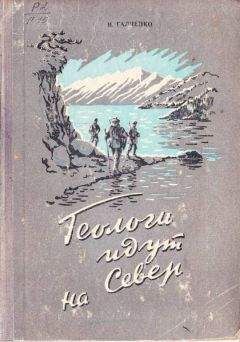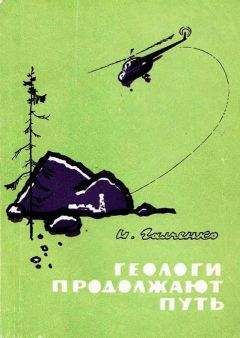— Наконец-то добрались до дому! — с облегчением говорит Мика, увидев постройки, мелькнувшие среди леса.
Здесь здания посолиднее и повыше, чем на участках, построены из ошкуренного леса, с крышами, покрытыми финской стружкой.
Подъезжаем к конторе и направляемся прямо в кабинет старшего геолога. Он только что вернулся со злосчастного ключа, где ликвидировал «партизанские работы» своих разведчиков.
— Константин Васильевич, — протягивает мне руку геолог.
— Получай пробы, — перебивает Мика, выкладывая из рюкзака на стол запечатанный пакет. — Надо их поскорее обработать. Это — с «Александровского».
— Вера Семеновна! — кричит Константин Васильевич, открывая дверь в соседнюю комнату. — Получите пробы. Обработайте их в первую очередь.
Он передает пакет Вере Семеновне — геологу камеральной группы.
— Здравствуй, Верочка! — нежным голосом здоровается Мика с женой. Вера Семеновна не отвечает. Она не может простить Мике этой истории с ключом.
— Ну, как вы, Константин Васильевич, съездили? — обращаюсь я к старшему геологу. — Прекратили ваши «эксплуатационные работы»?
Мика сразу делает вид, что он страшно заинтересовался лежащим на столе планом.
— Дело это мы уладим, Иннокентий Иванович. На наше счастье, выложенные проходки у непромытых шурфов сохранились. Они сумеют там подсчитать запасы. Вообще мне не надо было в это дело ввязываться.
— Ну, ваше счастье, Дмитрий Павлович, что так благополучно все кончилось, — говорю я, — еще один такой номер — и плохо вам придется…
С улицы доносится звон от ударов железа по привязанному рельсу. Это сигнал на обед.
— Ну, товарищи, пошли все ко мне на обед, — приглашает Мика, как ни в чем не бывало. — Ой, и жрать же я хочу! Как только поезжу по тайге, так во мне опять просыпается звериный аппетит.
За обедом Мика пьет и ест действительно за троих. После обеда мы с Микой ходим по складам, мастерским, осматриваем новые буровые станки, сборка которых уже закончена. Мика жалуется:
— Не хватает летнего обмундирования для рабочих: сапог и ботинок. Да и с взрыввеществами и средствами взрывания дела плохи. Не завезли в достаточном количестве.
Я молча достаю свою записную книжку, в ней записано все, что он взял у снабженцев управления: продукты, промтовары, материалы и инструмент. Мика с удивлением смотрит на меня.
— Летним обмундированием ты снабжен на Полный списочный состав. А аммонитом и средствами взрывания тебе еще придется поделиться с соседним районом. А листовое железо, часть дефицитных продуктов и спирт, которые ты забрал на свои склады, возвратишь немедленно на своей машине в управление.
— Да машина же потерпела аварию, пришлось здесь ее и разгрузить, — слабо протестует Мика.
— Знаю я эти поломки с машинами, которые везут дефицит или спирт. Все надо возвратить. И немедленно.
Лицо Мики вытянулось и стало грустным. Он пытается сменить тему разговора. От его самоуверенности не осталось и следа.
* * *
Утром я прощаюсь с Микой и Константином Васильевичем. Коренастый якут Михаил Слепцов, личный каюр Мики, подводит двух оседланных лошадей.
— Смотри, Михаил, береги лошадок! Довезешь до Куртаха и возвращайся назад. Там свежих лошадей начальнику дадут.
Я знаю, душа Мики разрывается, ему жаль лошадей, но не дать их нельзя.
— Да, чуть не забыл, — говорит он, морщась. — Будете в райисполкоме, передайте председателю, что арендованные у колхоза «Большевик» олени отправлены обратно… Ну, до свидания! — И он, отводя глаза, подает мне руку.
— Плохо дело, надо торопиться. Сегодня вечером, наверное, пойдет вода по ключам, можно застрять в тайге, — говорит тревожно мой каюр Михаил, понукая лошадь, то и дело проваливающуюся в промоины на дороге. — Лучше доедем до старика Пятилетова, пообедаем, поспим, а ночью дальше поедем.
— Давай так и сделаем, — соглашаюсь я, по опыту зная, что по раскисшим за день весенним дорогам лучше ездить ночью, когда они опять подмерзают.
Проезжаем мимо участка «Санах». Я — вспоминаю историю открытия маленького ключа, по которому участок и получил свое название.
В конце апреля сорок третьего года мне пришлось срочно выехать сюда, так как положение с разведкой было явно угрожающим. Шурфы прошли на глубину двадцати — двадцати двух метров, но ни один не удалось добить до скалы. На такой глубине шурфы плохо проветривались, рабочие угорали, отказывались от работы. А тут весна, вода сверху бежит. В общем — труба, а не разведка. Шурфовщики в один голос утверждали, что до лета ничего сделать нельзя. Их поддерживал геолог района Герих.
— Безобразие! — шумел он. — Я буду писать докладную записку геологу управления о нецелесообразности разведки таких бесперспективных ключей.
Сколько я ему ни доказывал, что, по полученным поисковым данным, ключ явно перспективный, он и слушать меня не хотел. Пришлось дать ему категорический приказ продолжать разведку и добивать под его личную ответственность все шурфы.
Через неделю от Гериха было получено письмо. Захлебываясь от радости, он сообщал: «Три добитых до скалы шурфа сели на богатейшее золото… По ручью Санах россыпь с большими запасами металла…»
На следующий день я был на ручье. Шурфовщики, окрыленные результатами, работали круглые сутки. Разведка была закончена до паводка.
Этой же зимой, в конце декабря, всем в Дальстрое было ясно, что план по добыче золота к первому января не будет выполнен. Горняки напрягали все силы, чтобы выйти из прорыва. На пятидесятиградусном морозе, обжигающем лицо и руки, оттаивали дровами мерзлые пески, промывали их на проходнушках или лотками в дымящейся на морозе воде. До выполнения плана оставалось, правда, добить какие-то сотни килограммов, но суточная добыча по тресту давно уже снизилась настолько, что, как директор ни прикидывал, получалось, что надо мыть еще половину января.
И вдруг утром тридцатого декабря начальник Индигирского горного управления по телефону сообщает, что на одной из шахт прииска «Полярный» за смену намыто сто восемьдесят килограммов золота.
— Наверное, я ослышался… Восемнадцать? — переспросил директор.
— Нет, не ошиблись, сто восемьдесят…
План по тресту был перевыполнен накануне Нового года.
…Каюр мой дремлет. Я решаю его разбудить.
— Почему вас, Михаил, называют якутами? — спрашиваю громко. — Вы же себя зовете «соха»…
— Разное говорят, — трет он глаза. — Старики так рассказывают: давно, еще когда русские с Ермаком в Сибирь пришли, его помощник Михаил Кольцо до реки Лены дошел. Там встретились казаки, с незнакомым народом. По-хорошему встретились. Казаки стали угощать водкой. Налили, подали первому старику, он выпил, всего его обожгло, тепло и хорошо на душе у старика стало. Понравилось ему угощение.
А казачий атаман спрашивает его на непонятном языке:
— Как зовут ваш народ?
Старик не понял, думает, еще угостить хотят, чашку пустую протягивает ему и просит: «Кут! Кут!» — «налей, налей», значит по-якутски.
Атаману казаков показалось, что он ему отвечает: «Якут! Якут!» Так он и отписал царскому воеводе: встретил на Лене-реке мирный большой народ, который носит платье подобно русским и называет себя якутами. С тех пор все нас и называют якутами, а сами мы себя зовем «соха». Старики, впервые встретившие в лесу бородатых, обросших рыжими волосами, страшных, не известных раньше людей, стали называть их «нюча», что значит «лесной человек, леший», — не без ехидства добавляет Михаил.
* * *
Едем автозимником, проложенным по руслу реки. Машины здесь уже не ходят. В полдень подъезжаем к двум низким таежным баракам. Около них лежат кипы сена, мешки с овсом и мукой, ящики. Снег около барака растаял и стоят лужи. Из барака в рубахе, с открытой головой, обутый в грязные стоптанные валенки, выбегает сухой, еще крепкий старик и, прикрыв рукой глаза от солнца, долго всматривается в меня. Его редкие седые волосы венчиком окружают лысину, половина левого уха у старика отсечена и гладкий шрам блестит на солнце.
— Здорово, Пятилетов! Что, не узнал? — соскакивая с лошади, здороваюсь я.
— Узнал, Иннокентий Иванович! По голосу узнал! Цыц, окаянный! — прикрикивает он на маленькую лохматую собачонку неопределенной породы, пронзительно лающую на нас. — Глаза стали отказывать, из темноты на свет выскочу, совсем ничего не вижу. Он суетливо привязывает лошадей.
— Ишь, как уморились! Пусть немного постоят, обсохнут…
За чаем старик, соскучившийся в одиночестве, беспрерывно говорит. Рассказывает о себе, о своих скитаниях по золотым приискам. Я с удовольствием слушаю наблюдательного, и умного старика.
— На прииск я попал совсем молодым, — припоминает старик. — В нашу глухую Тобольскую деревню, где я вырос, явились с Амурских приисков два моих дружка. О заработках тамошних рассказывали чудеса. Запала мне мысль тоже на Амур податься. Холостяк я тогда был. Родителям говорю: «Пойду на заработки, через год — два вернусь с деньгами. Хозяйство поправлю, женюсь». Зазноба у меня в деревне была, Маша. Плакала она, расставаясь со мною, чувствовало, видно, ее сердце, что больше меня не увидит. Уехал я на Амур со своими дружками. И началась моя приисковая старательская жизнь. С прииска на прииск, из одной тайги в другую кочую, а счастья нет. Не могу по-настоящему заработать. «Вдоль тайги попал», — смеются надо мною ребята. А если что и заработаю летом, зимой спущу или прогуляю. Кругом кабаки да соблазны по женской линии. Молодой был, смотришь, пьяного и оберут. Домой не пишу — стыдно. А года идут… В девятьсот пятом году, в революцию первую, улыбнулось было мне счастье. Захватили мы в Тимитонской тайге прииск «Лебединый», его только тогда разведали, хозяйского заказчика взашей выгнали, сами себе делянки нарезали, стали мыть. Золото хорошее пошло. Да хозяева не поскупились, казаков наняли, выгнали они нас с прииска, золото отобрали, нескольких ребят порубили. Мне тоже тогда досталось — пол-уха лишился. Совсем плохо нам стало в той тайге. Хозяева на работу не принимают. «Бунтари, — говорят, — и грабители».