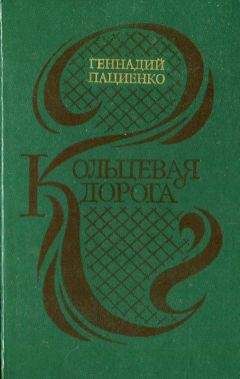— Уехать… Куда?
— В село. В деревню. В глухую деревню. Пенсии мне везде сполна хватит. А общественная работа моя там будет нужнее. Заодно и сам еще кое-чему поучусь у людей. На земле поработаю. Мне что? Мне доживать. Но и дожить надо со смыслом!..
Если же хочешь знать, директор был прав, переводя тебя к нам. И Сипов был прав. Обе стороны были правы. Ты подумай как-нибудь наедине. Подумай. И ты прав. Все здесь правы. Люди ближе и ближе к доступному. Ну а потом, что дальше? Существует предел всему. У тебя нет квартиры? Да, нет. Но однажды все это будет. И как поведешь ты себя потом, после этого? Успокоение — это не путь к счастью.
К столику подошел директор:
— Алексей Алексеевич, а не засиделся ли ты? Нам вроде бы в одну сторону. Поедем-ка?!
— Поедем.
Горликов как-то охотно и разом поднялся и направился с директором к выходу. Во дворе он остановился:
— Петр Сергеевич, зайдем к тебе. А то ведь скоро на пенсию уйду, так и не поговорим с тобой по душам.
— Что ж, в конце года человеку положено говорить о прожитом.
— А в конце жизни — и подавно.
Они прошли сквозь снежную улицу к заводоуправлению, поднялись в директорский кабинет. Уселись.
— Ты знаешь, что мне не все равно, кто после меня останется, — начал Горликов.
— Надо думать.
— Именно думать! Иначе…
— Что иначе?
— Даже такие старательные и правдивые натуры, как ты — потеряют авторитет.
— Это почему же?
— Опираясь на Сиповых. Заручаясь ими.
— Это первое?
— Да. Это первое.
— Перестаньте, Алексей Алексеевич! Сипов да Сипов! Он работник, понимаете, раа-абот-ник!
Горликов положил осторожно свою руку поверх директорской:
— Извини, но это толкач! Прежде всего.
— Допустим. Нужны и такие.
— Я не корю тебя, Петр Сергеевич пойми! Я делюсь как товарищ нелегким собственным опытом. И горькой, я бы сказал, полынной этакой мудростью. Хочу, чтоб ее горечь хотя бы немножко коснулась бы и тебя. Что с того, что ты директор, если за цифрами не разглядишь душу. К молодым тянись, к их помыслам. Это есть в тебе. Хороших парней набрал. Но и без толкачей не обошелся. Ах, да что говорить!..
Горликов поднес к глазам руку.
Лицо директора посуровело, отяжелело, осунулось.
— Верно ты говоришь, — вздохнул он. — Только сказал поздновато. Не встретился мне такой человек раньше.
— К молодежи, к ней ближе. Ты это умеешь. Давай ей ход, верь в нее, чтоб и она это чувствовала. Сразу легче пойдет все. Тогда и толкачи тебе не понадобятся.
— Ты хочешь, чтобы я с ним расстался? С Сиповым?
— Я хочу, чтобы вы расстались, если так громко можно выразиться, с сиповщиной. Никак не пойму… Ведь хорошо, замечательно, что ты, когда пошел к нам, — молодых рабочих за собой позвал. Хороших парней набрал, бывших солдат, в армии прошли закалку. Ну а Сипов, зачем Сипов за тобой уволокся? Что это за хвост?
— Да, хвост, это верно. — Директор подошел к окну, долго смотрел в темноту. — Надо рубить хвост. Атавизмом это называется. Ты не думай, я кое-что понял, не без твоей науки, не без науки рабочих. Я специально поставил для себя психологическую задачу: разберись, почему рабочие невзлюбили Сипова. В сущности, не такая и трудная задача. Гораздо сложнее понять, за что я его ценил? Хороший толкач? Умеет, особенно в дни штурмовщины, добиться своего? Да, для штурмовщины он был подходящий человек, и то не совсем. Там ведь тоже душа нужна. А речь идет о том, чтобы штурмовщину изжить, а душу оставить. Вот почему Сипов должен уйти, а ты остаться…
— Что ж, Петр Сергеевич, я подумаю. А сейчас, если разрешишь, я пойду. Мне сегодня еще предстоит разговор с одним очень нужным мне человеком. С бывшим другом…
— С бывшим?
— Да.
— Вернуть хочешь?
— Сделаю все возможное.
— Удачи тебе, Алексей Алексеевич. А Сипов мне далеко не друг…
— Важно понять, что он вам в чем-то был врагом.
Директор подошел к Горликову, поправил его галстук.
— За прямоту спасибо, Алексей Алексеевич. Большое спасибо.
Они сидели допоздна в огромном директорском кабинете. Было грустно и тяжело от понимания друг друга.
Вдвоем они и пошли домой по предновогодней метели.
* * *
Родион был один. Мог все осмыслить за этот вечер, взвесить. Пришли тишина и сумерки. Думалось о Штареве, Горликове… Великий Чехов изрек: «Счастья нет и не может быть, а если в жизни есть смысл и цель, то смысл этот и цель вовсе не в нашем счастье, а в чем-то более разумном…»
Больше счастливых — больше доброты в мире.
Быстро, однако, запомнилось это вычитанное. Но несмотря на это, никогда не давало оно прямого ответа, точного заключения — в чем были счастье, цель, радость. Оно просто заставляло об этом думать. Одни счастье ловят, другие — всю жизнь идут к нему. И нет конца пути этому. Может, в том и состоит оно, счастье, чтобы всю жизнь идти, всю жизнь искать его.
Пора было вставать, выходить на улицу, звонить Лариске. Оставаться в буфете не имело смысла. Вокруг нарастали шум и галдеж.
Несколько минут всего удалось Родиону посидеть одному. Легонько пошатываясь и извиняясь, к столику подошел, а потом и присел Агафончик.
— Не выпьешь? — спросил он.
— Не выпью.
— Со мной не хочешь?
— Вообще не хочу.
— Сложное, Родион, у тебя было лето. Ты прости меня. Прости, Родион!..
Родион опешил. Не знал, что и говорить: Агафончик просил прощения — за что?
— Не переживай за меня, — сказал он. — Не переживай! Считай, залетела горячая стружка. Ну обожгла, рубец оставила. И теперь ее можно вытряхнуть. Я ее, Агафонов, если хочешь знать, вытряхнул. Давно вытряхнул.
— Родион, зови меня просто.
— Как?
— Сергей. Просто Сергей.
— Ладно, Серега.
— Знаешь, давно хотел признаться тебе. Еще в раздевалке. Помнишь то утро, когда говорили о футболе. Я не думал, что Сипов пойдет к директору. Я одному ему сказал. И все. И больше никому. Разве знал я, что так получится. А Сипов — взял и сказал директору…
— Да о чем ты?
— Я видел, как брали стаканы. Видел, куда пошли. И сказал Сипову. Он все. Дурак я, ребята, дурак! Это Сипов. Он предупреждал меня и о каждом рейде по цеху. И я успевал убрать брак. Носил в пожарный ящик с песком, а когда утихало — в бак большой опускал. Думал, навсегда хороню. Это мои были детали. Их позже нашли в цистерне. Сказали Сипову. Но он замял дело. Я знал, точно знал, что ты догадываешься. Боялся, что ты пойдешь и расскажешь. А ты не сказал, спасибо тебе. — Агафончик всхлипнул. — За квартиру спасибо. Пойдем к нам прямо сейчас?!
— Лучше на новоселье. Или уже было?
— Будет. Обязательно приходи. Дурак, ох дурак же я был. Привык к этому Сипову. И жизни другой не знал. И не умел оставаться один в ней, куда Сипов, туда и я… Все делал как ему лучше. Я ребятам только что рассказал. Простили. И ты прости.
— Желаю тебе, Серега, добра так же, как и желал. Знаешь, что тебе мешало получить квартиру?
— Ну?
— То, что ты уходил, увольнялся часто.
— Спасибо. Может, и так. А правда, Родион, что после каждой болезни внутри человека остаются рубчики? Это мне жена говорила.
Родион рассмеялся:
— Если бы видел, — сказал бы! Пойду я. Ждут. Счастливо оставаться!
— А ты знаешь, почему я признался тебе? — спросил торопливо Агафончик, наклоняясь поближе к лицу Родиона. — Уж больно честный ты парень, светишься как-то. Хорошо светишься. Гонору нет, зато честь есть, честь все в тебе чувствуют. Ну и я тоже почувствовал… Не думай, что я уж такой… Агафончик, и все. Я хочу быть Сергеем Александровичем Агафоновым.
— Если хочешь, значит, будешь, — уже примирительно сказал Родион. — Все. Устал. Пойду домой.
На улице падало, кружило, мело и мело снегом.
Время от времени Родион опускал в карман пиджака руку, шарил там, комкая и перебирая рубли и монеты, пока не находил, не нащупывал среди них детальку — небольшой кусочек металла с отколотым основанием. Теперь-то он понимал, почему замялось дело с деталями. Агафончик мог бы сознаться. И тогда Сипову непоздоровилось бы.
Однажды Родион видел девчушку, пытавшуюся поймать в сачок мотылька. Не так ли и взрослые по-детски пытаются иногда поймать свое счастье. Каждый один раз в жизни ловит его подобно ребенку.
Сжимал в руке Родион детальку — до судорог, до хруста пальцев, пока металл не врезался, пока не становилось вдруг больно. Сама собой рука разжималась тогда и, не успев отойти, вновь сжимала ставший теплым обломок с отколотым основанием. Высокие дни… Сколько их было и сколько еще будет в жизни. Ни счастью, ни радости без них не бывать.
Он шел сейчас с обломком детали к телефонной будке. Шел сказать Лариске лишь несколько слов, — о том, что всегда надо откликаться на зов о помощи, всегда надо верить ему.
И все забыть, все оставить, пока слышится тебе этот зов.